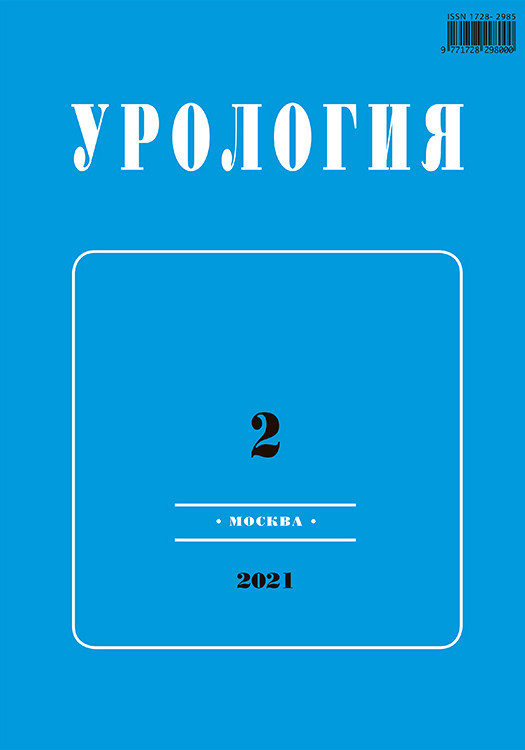Еще в Древней Греции Сократ писал: «Мочеиспускание – единственное удовольствие, за которое не надо платить». Позднее Иммануил Кант не менее четко и образно обозначил: «…хорошее мочеиспускание – единственное удовольствие, которое можно получить, не испытывая потом угрызений совести». Древние китайцы справедливо отмечали, что «…мочевой пузырь – зеркало души». Если перейти к современности, дизурия является одним из самых клинически ярких урологических симптомокомплексов, значимых по своим проявлениям и влиянию на качество жизни пациентов. Боль при мочеиспускании, нарушения выведения мочи по уретре, ургентные позывы, резь, жжение и другие проявления значительно осложняют жизнь больных и вызывают не только физиологические неудобства, но и психологические проблемы. При этом дизурией могут сопровождаться как инфекционные, так и неинфекционные заболевания органов мочевой системы. Как правило, в терапии этих больных урологи и врачи других специальностей делают главный упор на этиотропное и патогенетическое лечение основного заболевания, порой, не уделяя должного внимания эффективному купированию дизурической симптоматики, которая, несомненно, оказывает значимое влияние на качество жизни пациентов.
Механизмы развития дизурии обусловлены рефлекторными реакциями, возникающими в ответ на раздражение афферентных рецепторов нижних мочевыводящих путей. Оно может быть обусловлено различными факторами механического, химического и воспалительного генеза (как инфекционного, так и неинфекционного). Распространенность дизурии достаточно велика. G. Gerber и C. Brendler указывают, что среди пациентов, обратившихся за медицинской помощью, от 5 до 15% предъявляют жалобы на дизурию [1, 2]. Чаще страдают женщины: по некоторым данным, каждая четвертая взрослая женщина имеет те или иные расстройства мочеиспускания [3, 4].
В 1960–1970-х гг. благодаря внедрению уродинамических методов функциональной диагностики впервые была раскрыта патогенетическая сущность дизурии (поллакиурия, странгурия, неудержание мочи) в раннем детском возрасте. «Пионерами» стали Вальтер Михайлович Державин (1928–1993) и Евгений Леонидович Вишневский (1941–2011). В. М. Державин был одним из основателей отечественной школы детских урологов. По его инициативе и при непосредственном участии в стране было создано детское нейроурологическое отделение, на базе которого в последующем был открыт центр «Патология мочеиспускания». В создании нового направления в отечественной детской хирургии, нейроурологии, ведущую роль сыграл Е. Л. Вишневский. Именно благодаря их совместным научным исследованиям были описаны и внедрены в клиническую практику термины «нестабильный мочевой пузырь, нейрогенный незаторможенный мочевой пузырь», которые в дальнейшем трансформировались в понятие «гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП)», раскрыты патогенетические основы нарушений функции нижних мочевыводящих путей, пути диагностики и терапии этих расстройств не только у детей, но и у взрослых.
Вторым важным фактором клинической оценки функции нижних мочевыводящих путей стали исследования урологов школы Ю. А. Пытеля (1929–1998). В начале 1970-х гг. Юрий Антонович Пытель и ученики его школы обратили внимание на тесную взаимосвязь медиаторов вегетативной нервной системы и гормонов организма.
В частности, было установлено, что эстрогены являются альфа-адреномиметиками, а прогестины и глюкокортикоиды – бета-адреномиметиками. Первые повышают возбудимость, тонус и сократительную способность мускулатуры мочевыводящих путей, вторые, наоборот, ее возбудимость, тонус и сократительную способность снижают, способствуя их дилатации и замедлению транспорта мочи из почек. Именно это стало важной предпосылкой к пониманию единства регуляции процессов гемо- и уродинамики, а следовательно, и процессов гомеостаза в целом. В результате во многом стали понятны патогенетические механизмы развития дизурии и неудержания мочи и в раннем детском возрасте, и у взрослых, а также пузырно-мочеточникового рефлюкса и рефлюкс-нефропатии. Эндокринные расстройства логично легли в основы патогенеза цисталгии, «уретрального синдрома», рецидивирующего цистита, климактерических нарушений мочеиспускания и необструктивного пиелонефрита у женщин.
В результате на основе этих фундаментальных исследований сформировалось понятие «гиперактивный мочевой пузырь – ГАМП» – расстройство мочеиспускания вследствие неконтролируемых сокращений детрузора в фазу наполнения, проявляющееся симптомами ургентного мочеиспускания: поллакиурия (более 8 раз в день), ноктурия (более 1 раза за ночь), ургентные позывы к мочеиспусканию (ургентность – внезапное непреодолимое желание помочиться), ургентное недержание мочи. Симптомы ГАМП могут встречаться в различных сочетаниях и с разной выраженностью [5]. Большой вклад в научные исследования этой проблемы сыграли работы Е. Б. Мазо, О. Б. Лорана, Г. Г. Кривобородова, Д. Ю. Пушкаря, З. К. Гаджиевой и др.
Факторы риска ГАМП: возраст – морфологические возрастные нарушения в мочевом пузыре (МП) (повышение содержания коллагена и снижение плотности нервных волокон), неврологические нарушения, анатомические изменения положения уретры и МП (роды, операции, травмы и пр.), эндокринные нарушения (менопауза, диабет, ожирение и др.), а также облучение, нарушения питания, кишечные дисфункции и пр. Гиперактивность детрузора – патогенетическая основа ирритативной симптоматики при ГАМП у детей, женщин и при болезнях нижних мочевыводящих путей у мужчин.
Принято различать «симптоматический» ГАМП. В случаях, когда причину гиперактивности детрузора установить не удается, ГАМП считают идиопатическим. Причины ирритативных расстройств мочеиспускания, обозначаемых как «симптоматический» ГАМП, многообразны. Это острый, рецидивирующий, хронический, интерстициальный цистит, эктопия наружного отверстия уретры у входа во влагалище, урогенитальная атрофия (УГА), уретрит, туберкулез, рак мочевого пузыря, цистоцеле, камни мочевого пузыря, скользящая паховая грыжа. В гинекологической практике это миома матки, опухоли яичников, хроническое воспаление придатков. В онкологии это опухоли кишечника и таза. Наконец, это неврологические заболевания – надсегментарные (рассеянный склероз, паркинсонизм, болезнь Альцгеймера, повреждения спинного мозга, последствия мозгового инсульта) и сегментарные – результат денервации нижних мочевыводящих путей при операциях на органах таза. Именно поэтому следует рассматривать ГАМП как симптомокомплекс, входящий в клиническую картину ряда заболеваний органов мочеполовой и нервной систем, по своей выраженности и тяжести непосредственно зависимый от них. Для эффективной диагностики и терапии специалист должен обладать мультидисциплинарными знаниями. Следует рассматривать идиопатическую детрузорную гиперактивность, нейрогенную детрузорную гиперактивность и ГАМП без детрузорной гиперактивности.
Особенности расстройств мочеиспускания у женщин: большой процент форм (стрессового и ургентного) недержания мочи в различных периодах климактерия, после родов, после гинекологических операций (гистерэктомии и др.), после урогенитальных инфекций. Частота проявлений урогенитальной атрофии (УГА) – проявлений гормональной недостаточности в климактерии – колеблется от 13% в перименопаузе до 60% в постменопаузе длительностью более 5 лет. Их наибольшая частота и выраженность отмечаются у курящих женщин, у пациенток, получающих лечение по поводу рака молочной железы [6, 7].
Как показал опрос в США, 70% американских женщин испытывают проблемы в сексуальной жизни, в том числе и обусловленные ГАМП, 22% буквально страдают от них: отсутствием либидо и позитивной реакции на ласки партнера, неспособностью иметь оргазм, болью во время полового акта, сухостью влагалища. Эти проблемы сказываются на романтических отношениях (44%), чувстве собственного достоинства (43%), психологическом здоровье (42%). Главными последствиями сексуальной неудовлетворенности считают подверженность стрессу и нервозность (66%), лишний вес (25%), нарушения сна (28%).
Клиническая картина ГАМП в климактерии характеризуется нарушениями мочеиспускания, обусловленными атрофическими изменениями в уротелии и детрузоре вследствие дефицита эстрогенов, уменьшением влияний на супраспинальные центры мочеиспускания, содержащие эстрогеновые рецепторы, снижением контроля мочеиспускания. Патогенез УГА в климактерии связывают с дефицитом простагландина Е-2, который приводит к ишемии во всех структурах урогенитального тракта, снижению пролиферации уротелия влагалищного эпителия, нарушениям мышечных и коллагеновых структур урогенитального тракта. Эти процессы и обусловливают и ургентное, и стрессовое, и смешанное недержание мочи у женщин [6–11].
В основе гиперактивности мочевого пузыря – непроизвольные сокращения детрузора. Так, атрофия уротелия (у женщин в результате дефицита эстрогенов) нарушает его барьерные свойства и приводит к его повреждению. Нарушение его защитного гликозаминогликанового слоя способно значительно повышать чувствительность субуротелиальных рецепторов и усиливать нервную проводимость. На этом фоне к усиленному выделению тахикинина может приводить избыток пуринов, обусловленный их потреблением и нарушениями обмена, и туберкулезный воспалительный процесс. Международная ассоциация по менопаузе (IMC), созданная для изучения всех климактерических проявлений у мужчин и женщин, отмечает, что эти симптомы вагинальной атрофии легко купируются эстрогенами. Как правило, требуется продолжительная терапия, так как симптомы возобновляются после ее отмены. При локальном использовании «слабых» эстрогенов в низких дозах системные риски не развиваются.
В странах Европы у 17% населения старше 40 лет отмечаются симптомы ГАМП – у 56% женщин и 44% мужчин [12]. По мировой статистике поллакиурия наблюдается в 85%, ургентные позывы в 54%, ургентное недержание мочи в 36% наблюдений. Частота увеличивается с возрастом. Так, у женщин 40–44 лет распространенность этих симптомов в среднем составляет около 10–12%, в 70 лет и более она возрастает до 15,6% [13], у мужчин соответственно – от 10 до 11,8% [14]. Д. Ю. Пушкарь обращает внимание на то, что в России ГАМП наблюдается у 38,6% женщин [15], общая распространенность составляет около 10,5 млн человек, из них ургентное недержание мочи наблюдают 3,7 млн (36%). Вследствие низкой обращаемости и диагностики 95% больных ГАМП в России не получают адекватной терапии [16]. По данным опроса населения жителей Московской области [17], у женщин 20–89 лет распространенность поллакиурии более 8 раз в сутки составляет 25,5%, ноктурии более 1 раза за ночь – 42,3%, более 2 раз за ночь – 15,4%. Распространенность ургентных позывов – 26,4%, ургентного недержания мочи – 12,1%. В целом симптоматика ГАМП присутствует у 18,2% женщин.
Проблема симптоматики ГАМП окружена мифами, согласно которым это вариант нормы и не является существенной проблемой, неотъемлемая часть старения, проблема только пожилых, и специалисты вряд ли могут помочь. Факты свидетельствуют о другом: симптомы ГАМП свойственны всем возрастным группам и не могут считаться нормой, значительно снижают качество жизни, они могут быть выявлены и подвергнуты эффективной терапии. Ургентное (императивное) недержания мочи в наибольшей степени снижает качество жизни, поскольку возникает внезапно и сопровождается значительным объемом непроизвольной потери мочи. «Гиперактивный мочевой пузырь не убивает вас, он лишь крадет вашу жизнь», – написала Jeannette Brown (University of California at San Francisco Medical School). Симптомы гиперактивного мочевого пузыря негативно влияют на все сферы жизни больных: социальную, физическую, семейную, профессиональную, сексуальную, психологическую. В итоге это приводит к снижению социальной активности, усилению социальной изоляции, вынужденному планированию поездок, исходя из местоположения туалетов, ограничению физической активности, вынужденному применению прокладок, пеленок, специального непромокаемого постельного белья и пр., вынужденному использованию темной одежды, скрывающей следы недержания мочи, семейным проблемам, снижению продуктивности, отказу от работы, вынужденному ограничению сексуальных контактов, чувству вины/депрессии, потере самоуважения и чувства собственного достоинства, апатии замкнутости, страху перед бременем данного заболевания из-за потери контроля над мочеиспусканием, из-за пятен на одежде и запаха мочи. Следует отметить выявленные неврологами характерные анамнестические данные у женщин с ГАМП [18]:
- Смерть близких (57%).
- Эпизод депрессии, потребовавший специального лечения (57%).
- Длительные служебные неприятности (37,5%).
- Неверная диагностика заболеваний органов мочеполовой системы (18.7%).
- Эпизоды необходимости длительного сдерживания мочеиспускания и удержания мочи в связи с чувством стыда и неудобства 15,6%.
Пристальное внимание к проблеме ГАМП неизбежно привело к совершенствованию знаний о функциональной морфологии нижних мочевыводящих путей, особенностей их иннервации и деятельности благодаря исследованиям морфологов, нейрофизиологов и клиницистов. Источниками сегментарной иннервации нижних мочевыводящих путей служат нижнегрудные (Т-9 – Т-12), поясничные (Л-1 – Л-5) и крестцовые сегменты (S-1 – S-5). Сегменты Т-11–12 образуют нижнебрыжеечное сплетение, сегменты Т-12–Л-1 и 2 – верхнебрыжеечное сплетение, включающие и ветви блуждающего нерва. Их слияние образует тазовое сплетение, в которое помимо подчревного (симпатического) нерва в виде тазовых нервов вплетаются парасимпатические ветви крестцовых сегментов S-2–5 и седалищного нерва. Особое место в иннервации уретрального сфинктера помимо симпатических влияний занимает отходящий от тазового сплетения соматический срамной нерв. Следует подчеркнуть, что в сплетениях тесно взаимодействуют и симпатические (альфа и бета-адренорецепторы [бета-3]), и парасимпатические структуры, имеющие в основе холинорецепторы (М-3). Необходимо подчеркнуть, что М-3-рецепторы, относящиеся к парасимпатической системе, имеют медиатором ацетилхолин. Тот же медиатор имеют и преганглионарные структуры симпатической системы, а норадреналин как медиатор появляется лишь в постганглионарных симпатических структурах. Срамной нерв как соматический имеет Н-холинорецепторы.
В контроле деятельности нижних мочевыводящих путей участвуют префронтальная кора, передняя поясная кора, островок Рейля, базальные ганглии, околоводопроводное серое вещество, мозжечок, а также таламус и гипоталамус. Афферентные импульсы поступают в околоводопроводное серое вещество. Оно вместе с островком Рейля, префронтальной корой и базальными ганглиями образуют единый взаимосвязанный регулирующий комплекс. Островок Рейля через переднюю поясную кору, а префронтальная кора через таламус связаны с гипоталамусом, но таламус оказывает и непосредственное влияние на островок Рейля. Мозжечок связан не только с ним, но и с околоводопроводным серым веществом. Именно оно служит источником сигналов в эфферентные пути, которые складываются из деятельности префронтальной коры и гипоталамуса. Из него выходят и эфферентные сигналы к центру мочеиспускания, регулирующему и гипоталамус. Необходимо подчеркнуть, что в периферических нервных сплетениях расположены и теснейшим образом контактируют и холинергические, и адренергические структуры, морфологически различить которые в тканях практически невозможно.
Считается, что любые нарушения взаимоотношений коры и ствола выше сакрального уровня спинного мозга могут лежать в основе детрузорной гиперактивности. При этом сакральные интернейроны перестают информировать ствол головного мозга, а именно они обеспечивают адекватную чувствительность мочевого пузыря, и С-волокна начинают воздействовать на сакральные двигательные мотонейроны. А они уже через ганглии воздействуют на мочевой пузырь [19]. Общепринятые классические представления и деятельности детрузора – функционального гладкомышечного синцития мочевого пузыря [20] предполагают, что процесс накопления мочи (наполнение мочевого пузыря) преимущественно симпатический, а опорожнения (мочеиспускание) – парасимпатический. Сложность и противоречивость этой концепции в том, что медиатором парасимпатической системы (пре- и постганглионарные структуры) однозначно является ацетилхолин. В процессе участвуют все (М-1–М-5) холинорецепторы. Как мы уже отмечали, медиаторами симпатической системы являются и ацетилхолин (преганглионарный), и норадреналин (постганглионарный отдел). В нормальных условиях они находятся в гармоничном физиологическом равновесии, при возникновении детрузорной гиперактивности холинергические структуры начинают преобладать. В этом, по-видимому, и неоднозначная терапевтическая эффективность холиноблокаторов при ГАМП. Следует также иметь в виду, что в нижних мочевыводящих путях имеет место большое разнообразие рецепторов, которые могут быть мишенью для препаратов лечения СНМП. Их медиаторами являются окись азота NO, α1-А и α1-D адренорецепторы, β3-адренорецепторы. Также имеет место влияние андрогенов, эстрогенов, воспалительных цитокинов [21]. Исследования последнего десятилетия показали, что фосфодиэстераза-5 (ФДЭ-5) способна влиять не только на сексуальную сферу мужчины, но и на детрузор, шейку мочевого пузыря, простату и уретру [22].
Следует более подробно остановиться на иннервации нижних мочевыводящих путей. Обеспечение сознательного контроля мочеиспускания требует сложных взаимодействий между вегетативным (симпатическим и парасимпатическим) и соматическим отделами нервной системы. Симпатические нервные волокна берут свое начало из боковых рогов грудопоясничного отдела (спинномозговой центр Якобсона) и ганглиях нижнего брыжеечного сплетения, достигают МП в составе подчревного нерва. Симпатические постганглионарные нервы выделяют норадреналин, который активирует β-адренергические рецепторы, что приводит к ингибированию сокращения детрузора, и α-адренергические рецепторы, что приводит к возбуждению мускулатуры уретры и шейки МП.
Центральный отдел парасимпатической иннервации МП располагается в промежуточных ядрах крестцовых сегментов. Холинергические преганглионарные волокна из промежуточных ядер посылают свои аксоны через тазовые нервы к ганглиозным клеткам тазового сплетения и интрамуральным нейронам в стенке мочевого пузыря. Ганглиозные клетки в свою очередь возбуждают детрузор, что приводит к его сокращению с последующим опорожнением. К основным медиаторам парасимпатической нервной системы относятся ацетилхолин и другие нехолинергические медиаторы. Ацетилхолин действует опосредованно, возбуждая M3-холинорецепторы детрузора. Парасимпатические нервные окончания в нервно-мышечных синапсах и в парасимпатических ганглиях тоже имеют холинорецепторы. Возбуждение этих рецепторов на нервных окончаниях может усиливать (через рецепторы М1) или подавлять (через рецепторы М4) высвобождение медиаторов в зависимости от интенсивности нейронного возбуждения. Основной нехолинергический медиатор – это АТФ, который активирует внутриклеточную пуринергическую систему через возбуждение P2X рецепторов и тоже способствует сокращению детрузора. Парасимпатические волокна вызывают расслабление мышц уретры путем высвобождения оксида азота (NO). Аксоны соматических двигательных нейронов передних рогов крестцовых сегментов S2–S4 (ядро Онуфа) проходят в срамном нерве и иннервируют поперечнополосатые мышцы уретрального сфинктера. Нейроны более медиально расположенного моторного ядра на том же уровне позвоночника иннервируют мускулатуру тазового дна.
Афферентные пути НМП состоят из цепочек чувствительных нейронов. Первые нейроны, располагающиеся в спинальных ганглиях на уровне S2–S4 и T11–L2, реагируют на пассивное растяжение и активное сокращение мышц МП и передают эту информацию на нейроны второго и третьего порядков. Эти нейроны обеспечивают координированную работу спинальных рефлексов и восходят к вышележащим структурам головного мозга, контролирующим фазы накопления и опорожнения МП. Наиболее важные афферентные волокна от мочевого пузыря идут в составе тазового нерва, в то время как чувствительность от шейки МП и уретры передается по срамным и подчревным нервам. Афферентные волокна этих нервов состоят из миелинизированных (Аδ) и немиелинизированных (С) аксонов. Aδ-волокна передают информацию о наполнении мочевого пузыря. С-волокна не чувствительны к изменению объема мочевого пузыря в физиологических условиях, поэтому они называются «тихими». Они реагируют главным образом на патологические стимулы, такие как химическое раздражение или охлаждение.
Одни спинномозговые промежуточные нейроны посылают восходящие волокна к определенным областям моста и среднего мозга, участвующим в контроле мочеиспускания. Другие промежуточные нейроны передают информацию из нижних мочевыводящих путей в структуры переднего мозга, включая таламус и гипоталамус. Спиноталамический и спиногипоталамический тракты хотя и не играют главной роли в мочеиспускании, но могут включаться в сознательный контроль наполнения мочевого пузыря. Чувствительные зоны коры головного мозга (ГМ) через спиноталамический тракт информируются о состоянии наполнения МП. В этом проявляется деятельность мостового центра мочеиспускания (МЦМ) и его нисходящих спинномозговых двигательных путей. Впервые центр управления мочеиспусканием был открыт в дорсальной части моста Баррингтоном в 1925 г. и с тех пор называется мостовым центром мочеиспускания, или ядром Баррингтона. МЦМ располагается в области покрышки моста. Нейроны МЦМ имеют нисходящие возбуждающие синаптические контакты с клетками парасимпатических преганглионарных мотонейронов, иннервирующих постганглионарные клетки мочевого пузыря. Электрическая и химическая стимуляция МЦМ в эксперименте инициирует сокращение мускулатуры мочевого пузыря и расслабляет сфинктер уретры, имитируя нормальное мочеиспускание. Цикл рефлекса мочеиспускания состоит из трех фаз, контролируемых различными центральными механизмами: фаза реализации безопасной среды – для начала мочеиспускания человеку необходимо осознание, что окружающая обстановка комфортна; фаза релаксации уретрального сфинктера и фаза сокращения детрузора. Процесс нормального мочеиспускания не возможен без какой-либо из этих фаз. МЦМ является командным центром мочеиспускания, контролирующим последовательное переключение фазы расслабления уретрального сфинктера на фазу сокращения детрузора.
Роль мостового центра удержания мочи (МЦУ) и его нисходящих спинномозговых двигательных путей заключается в расслаблении детрузора и сокращении уретрального сфинктера. МЦУ располагается вентролатеральней МЦМ. Синапсы волокон МЦУ возбуждают ядро Онуфа в крестцовых сегментах спинного мозга, таким образом повышая тонус сфинктера уретры. Стимуляция области МЦУ останавливает мочеиспускание, возбуждает мышцы тазового дна и сокращает уретральный сфинктер. Наоборот, двусторонние поражения МЦУ вызывают недержание мочи, чрезмерную детрузорную активность, невозможность сохранения мочи в пузыре и снижение тонуса уретрального сфинктера. На сегодняшний день нет анатомических доказательств связи между МЦУ и МЦМ и было высказано предположение, согласно которому эти центры функционально независимы.
Наиболее частые симптомы поражения кортикальных областей ГМ – это поллакиурия и ургентное недержание мочи. Поэтому Andrew и Nathan выдвинули следующую гипотезу: отсоединение лобной или передней поясной извилины от гипоталамуса приводит к непроизвольному началу мочеиспускания [23]. Действительно, префронтальная кора головного мозга человека и передняя поясная извилина активируются во время мочеиспускания [24].
Существует ряд исследований, согласно которым мозжечок и базальные ганглии оказывают в основном ингибирующее действие на мочевой пузырь. Мозжечковая патология приводит к увеличению частоты мочеиспускания и ургентному недержанию мочи. Симптомы гиперактивного мочевого пузыря также встречаются при болезни Паркинсона. Поскольку нет прямых связей этих областей с МЦМ, ингибирующее влияние, вероятно, косвенное через структуры переднего и среднего мозга.
Циклическая деятельность нижних мочевыводящих путей – это последовательное чередование периодов накопления и опорожнения. С возрастом мочевой пузырь увеличивается в объеме: у ребенка до 12 мес. его объем составляет около 50 мл, в 5–7 лет – 75–105, в 8–10 лет – 120–150, в 11–15 лет – 165–225, у взрослых – 300–500 мл. Частота опорожнения мочевого пузыря зависит от температуры воздуха, потоотделения, количества потребленной жидкости. В случае четкого позыва к мочеиспусканию его задержка не должна превышать то время, которое нам требуется для определения места возможного мочеиспускания. В нормальных условиях взрослый здоровый человек опорожняет мочевой пузырь от 4 до 8 раз днем и не более 1 раза за ночь, дети – значительно чаще, но не менее 3 раз в день. Чередование периодов накопления и опорожнения происходит при средней скорости наполнения мочевого пузыря 50 мл/ч. Первые позывы к мочеиспусканию возникают при его объеме 100–150 мл, обычное опорожнение – при 250 мл и более. Первый позыв, как правило, сопровождается кратковременным подъемом внутрипузырного и внутриуретрального давления, а мочеиспускание – его снижением по мере опорожнения. При гиперактивном детрузоре цикл деятельности изменяется. Относительно малый объем наполнения сопровождается ургентным позывом с падением внутриуретрального давления и резким повышением внутрипузырного. Таким образом, происходит снижение функционального и остаточного объема мочевого пузыря, снижается пороговое давление, уменьшается объем порций мочи, выделяемых при каждом мочеиспускании, сокращается фаза накопления и пропадает способность произвольной отсрочки (контроль) мочеиспускания. Именно это лежит в основе ургентного недержания мочи при ГАМП. Все это убедительно подтвердили исследования Е. Л. Вишневского и В. В. Данилова [25] по суточному урофлоуметрическому мониторингу. Если в норме у женщин 41–70 лет объемы мочеиспускания до 100 мл составляют около 21%, при ГАМП их процент увеличивается до 75,9%. Объемы 200–300 мл у здоровых – это 19,3%, при ГАМП – всего 3,5%. Медикаментозная терапия ГАМП направлена на изменение нейромедиаторных влияний на нижние мочевыводящие пути.
Алгоритм лечения при ГАМП известен и представлен в рекомендациях Европейской ассоциации урологов [26]. На начальном этапе это поведенческая терапия: изменение образа жизни, тренировка мышц тазового дна, тренировка мочевого пузыря. В отсутствие эффекта – медикаментозная терапия. Европейские рекомендации и рекомендации Российского общества урологов предполагают применение препаратов группы М-холиноблокаторов и β3-агонистов. Однако список возможных медикаментозных воздействий гораздо более обширный.
В настоящей клинической лекции мы решили уделить основное внимание антихолинергическим препаратам – первым из успешно примененных и остающимся основным средством коррекции детрузорной гиперактивности. Антихолинергические препараты эффективны для лечения больных с идиопатической и нейрогенной детрузорной гиперактивностью. Они применяются для уменьшения выраженности детрузорной гиперактивности и увеличения накопительной способности мочевого пузыря. При лечении пациентов с неврологическими заболеваниями могут потребоваться более высокие дозы, чем при лечении идиопатической детрузорной гиперактивности. Уровень доказательности 1а и степень рекомендаций А имеют Толтеродин, Троспиум, Солифенацин, Дарифенацин и Оксибутинин [26]. Перефразируя известное утверждение, можно сказать, что холиноблокаторы имеют во многом аналогичный механизм действия, сходные показания и противопоказания и относительно небольшие индивидуальные особенности, которые и служат критерием их назначения различным пациентам. Их эффективность и безопасность сравнимы, диапазон терапевтической дозы разработан. Побочные эффекты различны вследствие селективности к мускариновым рецепторам, химической структуры, проникновения через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), фармакокинетики и метаболизма.
Холиноблокаторы в комбинации с локальными эстрогенами служат терапией первой линии для женщин с императивными нарушениями мочеиспускания и/или с ГАМП. В Клинических рекомендациях 2016 г. по недержанию мочи у женщин подчеркнуто, что для лечения ГАМП и ургентного недержания мочи в качестве препаратов выбора необходимы М-холиноблокаторы, воздействующие на мускариновые рецепторы мочевого пузыря. Однако из-за их побочных эффектов в настоящее время используют β3-адреномиметики (Мирабегрон), стимулирующие β3-адренорецепторы уротелия, что приводит к расслаблению детрузора.
Единственным заряженным для ГЭБ препаратом является четвертичный амин – Троспия хлорид (Спазмекс). Остальные препараты этой группы липофильны, поскольку являются третичными аминами и проникают через ГЭБ. Троспия хлорид обладает максимальным сродством к М-холинорецепторам (от 9,0 до 9,3), тогда как сродство остальных М-холиноблокаторов составляет от 7,7 (Толтеродин) до 9,1 (Дарифенацин) [27]. Выделение в неизмененном виде с мочой для Оксибутинина 0,1%, Толтеродина – менее 1%, Солифенацина – 11%, тогда как для Троспия хлорида – более 80%, что обеспечивает его не только системное, но и местное влияние на нижние мочевыводящие пути. В отличие от других он не связан с метаболизмом цитохрома Р-450, метаболитами с антихолинергическим эффектом и лекарственным взаимодействием с метаболизмом вообще. Его отличают не только прямой спазмолитический эффект, но и быстрая форма высвобождения (4–6 ч), адекватное время полувыведения (5–15 ч) и отсутствие печеночного метаболизма. Гидрофильность (водорастворимость) Троспия хлорида максимальна и составляет 500 мг/мл [28], тогда как для остальных препаратов в этой группе она не выше 12 мг/мл (Толтеродин). Липофильность (жирорастворимость) Троспия хлорида, как мы уже отмечали, минимальна [29], что препятствует его проникновению через ГЭБ. Это дает ему возможность минимально (10–35%) вызывать сухость во рту, запоры (1–14%), а побочные эффекты, связанные с влиянием на центральную нервную систему (ЦНС), – с частотой менее 2% [30]. К ним относят ощущение спутанности сознания, головокружение, сонливость, головную боль, повышенную возбудимость, галлюцинации и парестезии.
Троспия хлорид не влияет на тестирование памяти и не может быть обнаружен в ЦНС пожилых пациентов с гиперактивным мочевым пузырем [31]. В отличие от третичных аминов Спазмекс не проникает через гематоэнцефалический барьер – не вызывает побочных эффектов со стороны ЦНС [32]. Топографическая количественная электроэнцефалография молодых здоровых добровольцев показала статистически значимое снижение α-активности головного мозга после приема Оксибутинина и отсутствие изменений после внутривенного введения и перорального приема Троспия хлорида [33]. Троспия хлорид идентичен плацебо по влиянию на структуру сна в отличие от Оксибутинина, который достоверно ее нарушает (*p<0,05) [34]. Число ошибок при вождении автомобиля при приеме Троспия хлорида (Спазмекс) не превышает результатов теста, полученных при приеме плацебо [35].
Среди аналогов Троспия хлорид (Спазмекс) имеет самую большую доказательную базу. Троспия хлорид начинает свое действие уже на первой неделе приема, тогда как Толтерадин – на второй, Дарифенацин – на 3-й, а Оксибутинин и Солифенацин нередко лишь спустя 1 мес. от начала приема [36] Спазмекс – единственный М-холинолитик, дозу которого можно увеличивать до 90 мг в сутки без ущерба его безопасности при недостаточной эффективности более низких доз Спазмекса или других М-холинолитиков. Переносимость высоких доз Спазмекса была оценена в исследовании РЕСУРС (34 центра России, 669 пациентов с идиопатической и 324 с нейрогенной формами ГМП). 45 мг – стандартная доза Троспия хлорида у неврологических больных. Хорошая переносимость Спазмекса позволяет увеличивать дозу для достижения оптимального терапевтического эффекта (до 60–90 мг в сутки). При увеличении дозы Троспия хлорида прямой пропорциональной зависимости с развитием клинического эффекта не существует. Подбор дозы Троспия хлорида больным с нейрогенной детрузорной гиперактивностью (НДГ) для получения максимального терапевтического эффекта необходимо проводить индивидуально.
Нет сомнений в том, что выбор лекарственного препарата, в данном случае холиноблокатора, должен осуществляться исходя из максимального позитивного лечебного эффекта при минимальных нежелательных побочных эффектах. Спазмекс, как мы постарались показать, имеет свои важные преимущества, которые непременно следует учитывать при назначении терапии больных ГАМП.