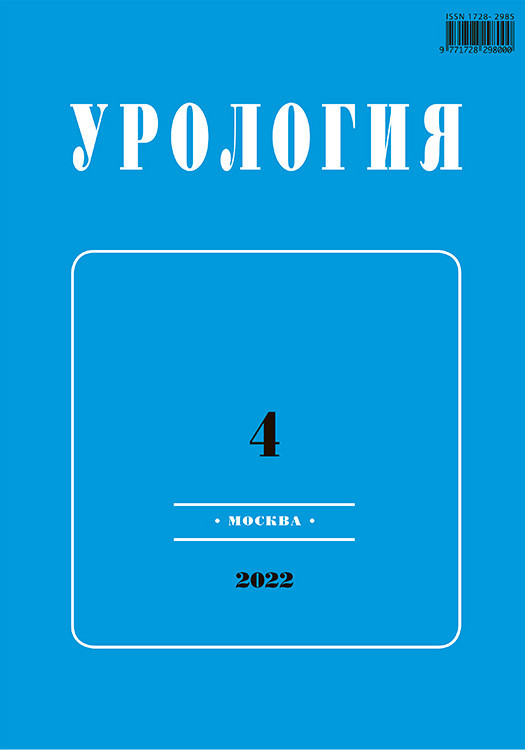За два последних десятилетия наблюдается экспоненциальный рост исследований, посвященных различным аспектам репродуктивного здоровья мужчин [1]. Увеличение случаев бесплодия, сопровождающееся снижением качества спермы, объясняет повышенный интерес научного сообщества к этой проблеме для поиска основных причин и разработки эффективных вариантов профилактики и лечения [2–5]. Мужское бесплодие – многофакторная форма патологии, включающая широкий спектр расстройств. Эндокринные и иммуногенные нарушения, анатомические и генетические аномалии, а также инфекции половых путей влияют на репродуктивный потенциал [6, 7]. Другие факторы, включая возраст, стресс, ожирение, образ жизни, курение, алкоголь, также ассоциированы с мужским бесплодием [8–10].
В большинстве случаев причины снижения фертильности у конкретного пациента остаются неизвестными и, по различным оценкам, от 20 до 75% диагностированного мужского бесплодия считаются идиопатическими [11]. Несмотря на высокую распространенность, этиология этой формы бесплодия мало изучена. Вместе с тем использование новых технологий секвенирования генома позволило выявить массу редких точечных мутаций, ответственных за нарушение различных сторон репродуктивного процесса [6]. Помимо моногенных мутаций распространенной генетической причиной бесплодия являются анеуплоидии, такие как синдром Клайнфельтера и мутации Y-хромосомы, которые в совокупности составляют до 20–25% всех случаев необструктивной азооспермии [12, 13].
Окислительный стресс также рассматривается как одна из основных причин мужской инфертильности [14]. По меньшей мере у 40% пациентов наблюдаются признаки активации свободнорадикальных процессов, которые индуцируют перекисное окисление липидов и повреждение ДНК сперматозоидов с образованием 8-гидрокси2’-дезоксигуанозина (8OHdG) [15]. Последний обладает высокой мутагенностью и может способствовать новым мутациям, примерно 75% из которых происходят в мужских зародышевых клетках. Анализ локусов образования 8OHdG в геноме сперматозоидов человека выявил около 9000 областей, уязвимых для атаки продуктами окислительного стресса. Хотя эти поврежденные основания, как правило, распределены по всему геному, определенная область на 15-й хромосоме, по-видимому, является предпочтительной мишенью для окислительной атаки. Этот локус соответствует области, с которой ассоциированы мужское бесплодие, рак, нарушения импринтинга и различные поведенческие отклонения (аутизм, биполярное расстройство, спонтанная шизофрения), связанные с возрастом отца в момент зачатия [16].
Исходя из этих фактов, Aitken и Baker [17] предложили гипотезу, согласно которой факторы окружающей среды и образа жизни во взаимодействии с конкретными клиническими условиями вызывают окислительное повреждение ДНК в мужских гаметах, которое инициирует образование мутаций de novo, способных оказывать существенное влияние на здоровье потомства, включая его фертильность.
Новой тенденцией в исследованиях последнего времени является акцент на необходимости обязательного контроля эффектов антиоксидантной терапии и сохранения редокспотенциала эякулята в физиологических пределах с целью профилактики развития редуктивного стресса [18–20].
Понимание молекулярных основ мужского бесплодия в настоящее время невозможно без использования т.н. омиксных технологий нового поколения, благодаря которым стала возможной разработка и внедрение в клиническую практику ряда диагностических биомаркеров мужского бесплодия [21]. Так, актуальность метаболомики для прогнозирования мужской фертильности подтверждается наблюдением, в котором сперматозоиды метаболизируют широкий спектр соединений, тесно связанных с сигнальными путями, участвующими в регуляции их подвижности, капацитации, гиперактивации и акросомной реакции [22]. Для определения клеточного фенотипа и его нарушений метаболомика считается более точной, чем транскриптомика или протеомика, поскольку метаболиты, присутствующие в клетке, позволяют судить о всей совокупности процессов, происходящих после экспрессии генов и трансляции мРНК.
За последние годы ряд исследований был посвящен роли эпигенетических механизмов, включая метилирование ДНК, в сперматогенезе и бесплодии [23, 24]. Полученные результаты подтверждают гипотезу, согласно которой степень метилирования ДНК сперматозоидов коррелирует с изменениями эякулята. Установлены дифференциально метилированные регионы нескольких генов, сопряженные с репродуктивной дисфункцией. Частой находкой при мужском бесплодии было аберрантное метилирование ДНК генов MEST и H19 в импринтированных генах и MTHFR в неимпринтированных генах. Эти и другие метаболические метки дефектов могут потенциально использоваться в качестве полезных инструментов в клинической практике для оценки происхождения мужского бесплодия [25].
Другому эпигенетическому механизму регуляции экспрессии генов, реализуемому посредством микроРНК на посттранскрипционном уровне, также принадлежит заметная роль в патогенезе мужского бесплодия. Измененные уровни микроРНК ассоциируются со снижением количества, подвижности и аномальной морфологией сперматозоидов [26]. Одной из наиболее изученных микроРНК, имеющих отношение к репродукции, является miR-34. В исследовании, в котором сравнивались образцы эякулята с нормозооспермией и различными вариантами патоспермии, показано, что miR-34b-5p, а также miR-34c-3p и -34b-3p были значительно меньше экспрессированы в образцах спермы пациентов с олигозооспермией [27]. При сравнении образцов спермоплазмы фертильных и бесплодных мужчин Wang и др. [28] обнаружили септет микроРНК, уровень которых был снижен при азооспермии, но в образцах пациентов с астенозооспермией он был повышен. Этими микроРНК были miR-34c-5p, а также miR-122, -146b-5p, -181a, -374b, -509-5p и miR-513a-5p. Согласно другим сообщениям, уровни miR-10b, -135b, -185, -574-5p, -297, -373, -1275 и miR-193b были повышены в сперме пациентов, страдающих бесплодием, в то время как уровни miR16, -100, -19b, -512-3p, -26a и miR-23b оказались ниже нормы [29, 30]. Также отмечено, что три пары – hsamiR942-5p/hsa-miR-1208, hsa-miR-296-5p/hsa-miR-328-3p и hsa-miR-139-5p/hsa-miR-1260a – экспрессированы в образцах с астено-, терато-, а также олигозооспермией и показывают дифференцированные паттерны экспрессии у этих пациентов по сравнению с контрольными образцами [31]. Таким образом, в регуляцию сперматогенеза вовлечено более 20 типов микроРНК, что предопределяет сложность интерпретации полученных результатов и их клинического применения. Эти микроРНК рассматриваются как потенциальные биомаркеры бесплодия, а также молекулярные мишени для его целевой терапии.
Определенный прогресс достигнут в изучении сигнальных и метаболических путей сперматозоидов, связанных с их биоэнергетикой, причастных к патологии фертильности [32, 33]. Выявлено семь основных путей, дифференциально экспрессированных в сперматозоидах фертильных и бесплодных мужчин. Показано, что белки метаболизма глюкозы и цикла трикарбоновых кислот высоко экспрессированы в сперматозоидах здоровых мужчин и, напротив, были дефектными в сперматозоидах бесплодных пациентов. Авторы предположили, что дефекты белков, связанных с энергетическим обеспечением сперматозоидов, могут быть универсальной причиной бесплодия независимо от его типа.
Особую группу составляют мужчины с тяжелыми формами идиопатического бесплодия и повторными неудачными исходами процедуры ИКСИ (интрацитоплазматической инъекции сперматозоида). Резистентность к терапии у таких индивидов нередко связана с дефицитом фосфолипазы C дзета сперматозоидов, критически важного фактора успешного оплодотворения, ответственного за активацию ооцитов [34, 35]. Анализ фосфолипазы C дзета служит надежным диагностическим инструментом скрининга пациентов для последующего назначения искусственной активации ооцитов [36].
В настоящее время предложено также множество т.н. новых биомаркеров мужской фертильности, диагностическая и прогностическая значимость которых подлежит дальнейшему уточнению [37, 38]. К ним можно отнести различные компоненты семенной плазмы: белок внеклеточного матрикса 1 (ECM1), убиквитин, белок акросомальных везикул 1 (ACRV1), антитела к простатическому специфическому антигену (PSA Antibodies), простагландин D-синтаза липокалинового типа (L-PGDS), супероксиддисмутаза (SOD), мелатонин, гомоцистеин, галектин-3, фактор ингибирования миграции макрофагов (MIF), фибронектин (FN1), фактор стромальных клеток-α (SDF-1α), лептин, адипонектин, грелин и др.
В заключение можно констатировать, что сдвиг парадигмы диагностики мужского бесплодия к протеомным, транскриптомным и т.п. исследованиям репродуктивной функции выявил множество кандидатов на роль биомаркеров, связанных с многочисленными причинами мужского бесплодия. Основная проблема – это максимально прецизионная идентификация уникальных индикаторов, ассоциированных с инфертильностью. Установить точный диагноз можно, разработав панель белковых/нуклеиновых биомаркеров с высокой специфичностью для верификации конкретного статуса оплодотворяющей способности сперматозоида.