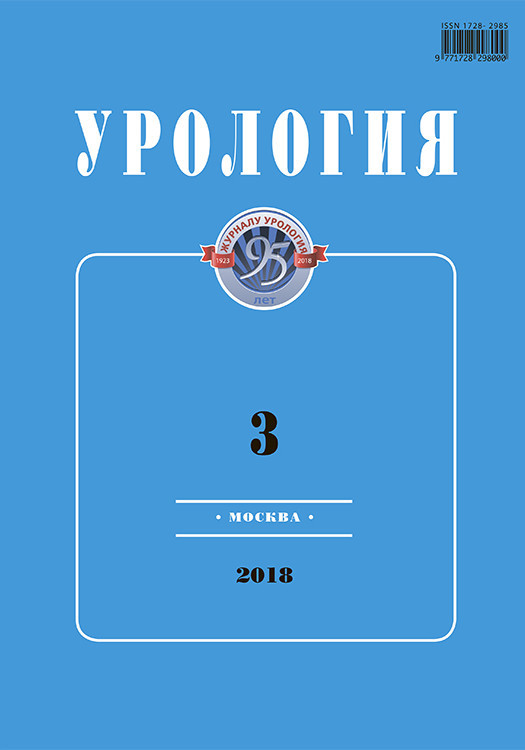Гипоспадия – вторая по частоте патология после крипторхизма среди врожденных заболеваний мужских гениталий с не вполне ясным происхождением. Заболевание, по данным мета-анализа [1], встречается с частотой от 1:270 (США, Израиль) до 1:3330 (Япония). Распространенность гипоспадии в 22 из 29 регистров ряда стран Америки, Европы и Азии за 30 лет выросла в 1,4–2,5 раза. Рост заболеваемости гипоспадией [2–4] наряду со снижением качества спермы и увеличением распространенности мужского бесплодия рассматривается как одно из проявлений ухудшения репродуктивного здоровья мужчин, что указывает на необходимость разработки мер профилактики. Важным условием успешного продвижения в этом направлении является выяснение этиологии заболевания и причин роста числа пациентов с гипоспадией.
По данным литературы, в настоящее время существует 5 основных теорий происхождения гипоспадии, каждая из которых включает ряд положений (гипотезы и доказа-тельства). В основе происхождения заболевания, согласно J. P. Mettauer (1842) [5] и Van Hook (1896) [6], лежит «остановка» дифференцировки полового бугорка и уретральной пластинки. Запускает данный механизм множество причин [7, 9]. Генные и хромосомные нарушения в соответствии с рекомендациями интернациональной рабочей группы по вопросам терминологии и концепций ошибок морфогенеза (1982) [10] служат причиной гипоспадии-мальформации, а негенетические причины приводят к возникновению гипоспадии-дизрупции. Заболевание также может быть мультифакториальным [11]. В то же время гипоспадия рассматривается либо как эндокринопатия [12], либо как дисморфия [13] – одна из разновидностей «болезней фибробластов».
В настоящей работе проведен анализ эпидемиологии и теорий происхождения гипоспадии для выбора приоритетного направления дальнейших исследований, конечной целью которых является разработка способов профилактики.
Распространенность различных по происхождению форм гипоспадии
Гипоспадия чаще всего встречается изолированно, но иногда сочетается с другими аномалиями развития гениталий, такими как хорда, меатостеноз, крипторхизм или паховая грыжа [2, 14, 15], и сравнительно редко бывает синдромальной патологией. Сочетанные формы наиболее часто встречаются при проксимальной гипоспадии [16, 17]. Гермафродитизм наблюдается среди 27% пациентов с гипоспадией и крипторхизмом [18].
Наследственные формы гипоспадии по отношению к ненаследственным встречаются в соотношении примерно 1:3 (22 против 78%) [8]. Гипоспадия распространена среди 6–8% отцов пробандов и 14% сибсов [9, 17]. У 34% отцов пробандов выявляются заболевания органов мошонки, такие как крипторхизм, варикоцеле, гидроцеле, а также атрофия тестикул, по сравнению с 3% в контрольной группе [9]. А такие симптомы субфертильности, как олиго- и патоспермия, встречаются у 24% отцов пробандов против 6% в контрольной группе [19].
Данные о частоте эндокринных и дисморфических отклонений при гипоспадии противоречивы. Эндокринологами T. D. Allen и G. E. Griffin [20] эндокринные отклонения были выявлены в 73% наблюдений. На этом основании авторы утверждают, что гипоспадия скорее является локальным проявлением эндокринопатии, чем дисморфии. В свою очередь L. S. Baskin et al. [21] с позиции гистобиохимии настаивают на обратном.
Гипоспадия встречается при 49 синдромах, наиболее часто обнаруживается при 15 из них [22]. При генетической гипоспадии происхождение патологии чаще носит эндокринный, чем дисморфический характер, поскольку при 38 из 49 синдромов (78 против 22%) заболевание сочетается с микропенией, крипторхизмом и/или паховой грыжей [22]. Генетические отклонения чаще сопровождаются возникновением проксимальных форм гипоспадии. В частности, генные нарушения на примере мутации гена андрогенного рецептора были обнаружены в 1 из 9 случаев проксимальных гипоспадий [23], а при дистальной гипоспадии – только в 1 из 40 случаев [24]. Хромосомные абберации встречаются при любой форме, за исключением головчатой гипоспадии, чаще всего в сочетании с крипторхизмом [25]. Гипоспадия достаточно часто наблюдается при делеции 4p-, 11q-, 13q-, 18q-, парацентрической инверсии 14-й хромосомы, а также при синдроме Кляйнфельтера [22, 26, 27].
Этиологию гипоспадии можно определить не более чем в 25% случаев заболеваний [18]. По имеющимся в литературе данным, можно говорить о пяти типах причин происхождения гипоспадии.
Наследственная и ненаследственная гипоспадия
Работы по изучению происхождения гипоспадии с конца XIX до середины XX в. были выполнены под влиянием учения о наследственности, основанного на законах Г. Менделя (1865), методиках Ф. Гальтона (1876). Первое время в соответствии с результатами семейных исследований [28, 29], близнецового метода [30, 31] гипоспадия считалась исключительно наследственным заболеванием с аутосомно-доминантным [32] или аутосомно-рецессивным [8] типом наследования. Однако расхождения в результатах изучения однояйцовых близнецов [33], а также данные эксперимента по феминизации самцов крыс под действием эстрогенов, применяемых антенатально [34], позволили высказать другую точку зрения о негенетическом (тератогенном) происхождении части гипоспадий.
Итогом изучения происхождения гипоспадии в этом периоде стала работа H. R. Sorensen (1953), объединившая обе теории. По данным автора, заболевание наследуется в 28% случаев, а 72% гипоспадий возникают под влиянием ненаследственных факторов [8].
Гипоспадия–эндокринопатия
В 1950–1970-х гг. происхождение гипоспадии было объяснено с позиции эндокринных расстройств. Разнообразные варианты эндокринопатического происхождения гипоспадии были охарактеризованы в работах по экспериментальной эмбриологии и клинической эпидемиологии. На основании серии опытов на эмбрионах кроликов и крыс сформулирован ряд положений о гипоспадии–эндокринопатии–мальформации [35–41], а на наблюдениях – положение о гипоспадии–эндокринопатии–дизрупции [9, 14, 42–44].
Тон в развитии этого направления был задан экспериментальными работами, выполненными эндокринологом A. Jost самостоятельно или в соавторстве [38–41]. За короткое время исследователям удалось охарактеризовать причины нарушений дифференцировки полового члена животных на органном уровне. Первоначально было установлено, что ряд механизмов незавершенной маскулинизации у эмбрионов кроликов обусловлен патологией тестикул и головного мозга. Затем была определена зависимость между вариантом порока развития гениталий и сроком повреждения в эксперименте тестикул и головного мозга. Собранные данные легли в основу концепции о гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси (ГГГО), при патологии которой может наблюдаться гипоспадия.
Представления об этиопатогенезе гипоспадии существенно расширили данные эксперимента A. S. Goldman и A. M. Bongiovanni [36]. В частности, применение блокатора одного из ферментов биосинтеза андрогенов (3β-гидроксистероиддегидрогеназа 2-го типа (3β-энзим)) сопровождалось возникновением у модели (крыса) не только гиперплазии надпочечников, но и тяжелой гипоспадии. На примере данной энзимопатии происхождение заболевания было охарактеризовано на новом, молекулярном, уровне и показана заинтересованность внутриутробной патологии надпочечников в возникновении части гипоспадий. Развивая идею применения антигормонов и блокаторов ферментов у крыс, показано значение дефицита других ферментов биосинтеза андрогенов и тестостерона, а также лютеинизирующего гормона в происхождении гипоспадии–эндокринопатии [35, 37].
Гонадотропное звено этиопатогенеза гипоспадии–эндокринопатии у человека и животных принципиально различается. К такому выводу специалисты пришли на основании результатов сравнительной оценки состояния гениталий при внутриутробной недостаточности или отсутствии аденогипофиза. Выявленные различия заключаются в том, что у человека развитие структур полового члена не страдает так, как у животных, и ограничивается микропенией [45]. Следовательно, аденогипофиз человека не принимает столь значимого участия в гонадотропной регуляции дифференцировки полового бугорка и уретральной пластинки. Объяснение прослеженной закономерности, выходящей за пределы концепции о патологии ГГГО, было найдено позднее [46].
Гонадотропная регуляция формирования уретры и полового члена у человека [47], так же как и всей первой половиной беременности, осуществляется в основном за счет плаценты и хорионического гонадотропина (ХГ). Соответственно, гипоспадия–дизрупция может возникать при гипохорионическом гипогонадизме, синхронном с процессом дифференцировки передней уретры и полового члена, как было впервые указано в работе A. Czeizel и соавт. (1979) [46]. К сожалению, ни доказательств, ни подходящих условий для проверки этого положения в эксперименте не существует. На справедливость данной идеи указывает ряд закономерностей. Пик продукции ХГ у человека [48] совпадает с периодом дифференцировки полового бугорка, уретральной пластинки, а также с периодом максимальной пролиферации клеток Лейдига [42]. В некоторых случаях гипоспадия возникает из-за преждевременной инволюции фетальных клеток Лейдига [49], которая, как было выяснено позже, также бывает обусловлена расстройством регуляции этих клеток ХГ. Заболевание может быть следствием плацентарной недостаточности при многоплодии [42]. Проявления плацентарных расстройств, такие как недоношенность [9], сниженный вес новорожденного [14], сниженный вес плаценты [43] и задержка развития плода [44], также могут быть взаимосвязаны с гипоспадией.
Дефицит гонадотропинов матери, а также патология ГГГО матери, как показывают наблюдения ряда исследователей, также могут быть ассоциированы с возникновением гипоспадии. В работе C. J. Robetrs и S. Lloyd (1973) [42] указано, что гипоспадия может возникать при условии формирования полового члена у плода в зимнее время года, когда у матери естественным образом снижается уровень собственных гипофизарных гонадотропинов. Такой вывод был сделан на основании зависимости между частотой возникновения гипоспадии и временем года, выявленной при анализе 5145 случаев гипоспадий из национальной базы США за 1962–1965 гг. [50]. В свою очередь вопросы о связи гипоспадии с первыми родами, а также возрастом матери, в частности, моложе 19 или старше 35 лет, остаются дискутабельными [51–53].
Гипоспадия–мальформация
Генетические причины гипоспадии были установлены в 1970–1990 гг. в результате разработки и внедрения новых методик исследования. С появлением в середине 1950-х гг. приемов хромосомного анализа были получены первые цитогенетические данные пациентов с гипоспадией. По данным D. Aarskog (1970) во всех случаях головчатой гипоспадии кариотип был нормальным, а его патология выявлена при более проксимальных формах, особенно в сочетании с крипторхизмом [25]. Позднее было установлено, что к хромосомной патологии, при которой обнаруживается гипоспадия, относятся делеции 4p-, 11q-, 13q-, 18q-, парацентрическая инверсия 14-й хромосомы, синдром Кляйнфельтера [22; 26; 27] и т. д.
В 1980–1990 гг. усовершенствование методики расшифровки нуклеотидной последовательности ДНК, предложенной Ф. Сенгером (1977) [54], ознаменовало наступление новой эпохи в изучении генов. Данное обстоятельство наряду с подтверждением влияния дефицита ферментов биосинтеза андрогенов [55], нехватки рецепторов гонадотропинов (ЛГ/ХГ) в клетках Лейдига [56], а также резистентности гениталий к андрогенам при рецепторной или ферментативной недостаточности [56, 57] на возникновение гипоспадии у человека вывело процесс изучения этиологии гипоспадии на новый, генно-молекулярный, уровень. Вследствие этого положение о дефиците гонадотропинов и андрогенов трансформируется в положение о моногенном происхождении гипоспадии–эндокринопатии.
Начальный этап изучения этого положения связан с реализацией международного проекта по расшифровке генома человека, продолжавшегося с 1991 по 2003 г. В тот период было определено местоположение генов рецепторов гормонов (ЛГ/ХГ – 6-я и 19-я хромосомы андрогенов – Хq11-13) и ферментов (цитохром Р450 17α-гидроксилазы/17,20-лиаза – 10q24-25, 3β-энзим – 1р13.1, 17β-энзим – 9q22.32, 5α-редуктаза 2 типа – 2р23). А затем было идентифицировано более сотни их мутаций, которые по сути являются этиологией моногенной гипоспадии–эндокринопатии.
В 5-м издании «Smith’s Recognizable Patterns of Human Malformation» [22] описано 49 генных и хромосомных синдромов, при которых гипоспадия может быть одной из выявляемых патологий.
Гипоспадия–дисморфия
Вопрос происхождения гипоспадии у большинства исследователей прочно ассоциируется с эндокринопатией. Сравнительно недавно было опубликовано несколько сообщений о том, что возникновение гипоспадии достаточно часто носит локальный характер. Для обозначения гипоспадии с таким происхождением в англоязычной литературе используется термин «дисморфия» по аналогии с такими проявлениями патологии слияния двух половин тела [13], как незаращение верхней губы и неба, грыжа белой линии живота, спинномозговая грыжа и т.д.
Идея о гипоспадии–дисморфии была встречена в работе эндокринологов T. D. Allen и J. E. Griffin (1984) [20]. Спустя несколько десятилетий она была проверена L. S. Baskin и соавт. (2000, 2001). С помощью гистобиохимического метода в большом проценте случаев гипоспадий было идентифицировано изолированное нарушение мезенхимально-эпителиальной дифференцировки срединного шва гениталий [13, 21]. В то время автором одной из вероятных причин гипоспадии была названа дизрупция гена 10-го фактора роста фибробластов [13].
Еще одним доводом в пользу данной теории служат результаты экспериментов по оценке значения мутаций в ряде семейств генов, отвечающих за формообразование органов, изложенные в обзоре Y. Kojima et al. [58]. По данным авторов, индукция мутаций в таких семействах генов у мышей, как sonic hedgehod, bone morphogenetic proteins, fibroblast growth factors, homeobox, а также Wnt, сопровождается возникновением гипоспадии. Следовательно, моногенная гипоспадия–дисморфия в ряде случаев может встречаться и у человека, что требует дальнейшего изучения.
Мультифакториальная гипоспадия
На рубеже XX–XXI вв. успешная реализация программы «Геном человека» открыла новые возможности в изучении происхождения мультифакториальных заболеваний – патологий, которые возникают в результате взаимодействия предрасполагающих генетических факторов с повреждающими факторами окружающей среды. Среди различных тератогенных факторов существует группа так называемых эндокринных дизрупторов, воздействие которых на плод наряду с другими заболеваниями может приводить к возникновению гипоспадии. Этот собирательный термин, предложенный T. Colborn в 1991 г., объединяет соединения экзогенного происхождения, обладающие свойствами женских половых гормонов [59] или антиандрогенов. В известных нам работах была показана зависимость возникновения гипоспадии от дозы, экспозиции и восприимчивости эндокринных дизрупторов.
Реализация влияния эндокринных дизрупторов в определенной мере зависит от образа жизни [60]. Одно из подтверждений этому было получено в работе K. North и J. Golding (2000) [61]. По данным исследования, приверженность беременной к употреблению в пищу продуктов растительного происхождения, содержащих фитоэстрогены, сопряжена с высоким риском возникновения гипоспадии у плода. А вот ответ на вопрос о принадлежности к повреждающим факторам высокого содержания соевых продуктов в рационе беременной остается неоднозначным [52, 53].
За восприимчивость к тератогенным факторам отвечают однонуклеотидные полиморфизмы – «гены предрасположенности». К возникновению изолированной гипоспадии, согласно результатам исследований «случай–контроль», предрасполагает наличие однонуклеотидных полиморфизмов в таких компетентных генах, как MAMLD1 [62] и ESR2 (ER-β) [63]. Восприимчивость к эндокринным дизрупторам, ссылаясь на результаты иммуногистохимических тестов, впервые представленных в работе B. Liu et al. (2005) [64], а затем и в работах других групп авторов [63, 65], также зависит от наличия в коже гениталий одного из эстрогензависимых факторов транскрипции (ATF3). ATF3 был идентифицирован в 86% изолированных гипоспадий по сравнению с 13% в контрольной группе.
Анализ положений теорий происхождения заболевания показывает, что из всего многообразия причин определена этиология моногенной гипоспадии–эндокринопатии и хромосомной гипоспадии. Проверка же положений тератогенной, дисморфической и мультифакториальной теорий происхождения заболевания с опорой на результаты современных молекулярно-генетических методов исследований (анализ однонуклеотидных полиморфизмов) и эпидемиологического анализа продолжается до настоящего времени.
За 30 лет заболеваемость гипоспадией выросла в 1,4–2,5 раза. Авторы имеющихся точек зрения о причинах роста заболеваемости сходятся в предположении, что произошедшие перемены служат следствием роста воздействия на плод повреждающих негенетических факторов. Среди них эндокринопатии могут быть одной из наиболее частых причин гипоспадии. В связи с этим изучение положения о дефиците плацентарных (ХГ) и материнских гонадотропинов, по нашему мнению, представляется приоритетным направлением изучения данной проблемы.