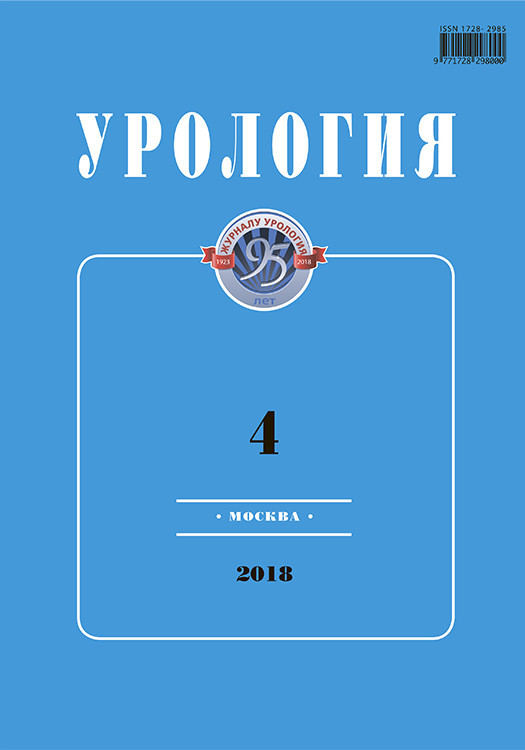Традиционно сложившийся взгляд на роль витамина D в организме заключается в его способности регулировать фосфорно-кальциевый обмен, что делает его основным витамином защиты от рахита, актуального в педиатрии, и остеопении/остеопороза, актуальных в ревматологии, эндокринологии и гинекологии. Однако подобный взгляд давно признан устаревшим, так как витамин D в отличие от всех других витаминов не является витамином в классическом понимании этого термина, поскольку не является кофактором ни одного фермента, синтезируется de novo в организме в биологически неактивном состоянии из общего предшественника для всех стероидных гормонов (7-гидроксихолестерола), активируется в организме за счет двухступенчатого метаболизма и только после превращения в активную форму реализует свои физиологические эффекты через специализированные ядерные рецепторы к витамину D, представленные практически во всех клетках и тканях организма, что позволяет говорить о витамине D как об активном стероидном гормоне [1, 2]. Витамин D способен генерировать и модулировать биологические реакции более чем в 40 клетках-мишенях за счет регуляции своими рецепторами транскрипции генов (медленный геномный механизм) и быстрых молекулярно-клеточных реакций (быстрый негеномный механизм) [1]. Современная роль витамина D в гормонально-метаболическом гомеостазе организма человека многими исследователями рассматривается как фундаментальная, поскольку витамин D регулирует около 3% генома человека, включая гены инсулинового рецептора и стероидогенеза (синтеза всех половых стероидных гормонов) [3, 4]. В связи с этим достаточный уровень гормона D необходим человеку на протяжении всей жизни: от периода новорожденности до самой глубокой старости, поскольку кроме так называемых классических эффектов (регуляция фосфорно-кальциевого обмена и костного метаболизма) витамин D выполняет в организме ряд важных так называемых неклассических эффектов, к которым относят, в частности, регуляцию жирового обмена (жиросжигающий эффект), синтез половых стероидных гормонов, торможение клеточной пролиферации и ангиогенеза (антипролиферативный и противоопухолевый эффекты), контроль секреции инсулина (гипогликемический эффект), активацию синтеза в клетках природных белков-антибиотиков системы врожденного иммунитета (кателицидинов; антибактериальный и противовоспалительный эффекты), ингибирование продукции ренина (гипотензивный эффект), активацию синтеза мышечного белка (миопротекторный и антисаркопенический эффекты), участие в серотонинопосредованных реакциях регуляции функций организма (противовоспалительный и антидепрессивный эффекты) и ряд других физиологических эффектов, подробно описанных в доступной литературе [5–11].
Дефицит витамина D: эпидемиология и гормонально-метаболические последствия. Дефицит/недостаточность витамина D сегодня является новой неинфекционной пандемией XXI в. среди взрослых и детей, что обусловлено прежде всего резким снижением длительности пребывания на солнце современных людей, особенностями географии районов проживания, обусловливающими выраженность и характер инсоляции, и явном дефиците потребления достаточного количества продуктов животного происхождения, содержащих витамин D. Особенно подвержены развитию дефицита/недостаточности витамина D люди, проживающие в странах, расположенных севернее 35-й параллели, которые объединены общим термином «зона витаминной зимы» [9]. Поскольку территория всей России является зоной повышенного риска развития дефицита/недостаточности витамина D, полностью находясь в географической зоне витаминной зимы, эта проблема для российской медицины актуальна и должна стать уже сегодня краеугольным камнем в концепции оздоровления нации [12– 14].
Частота дефицита витамина D среди взрослых жителей Земли, по разным оценкам, составляет не менее 50–80% [9]. Парадоксально, что сегодня даже в странах с очень хорошей инсоляцией наблюдается высокая частота дефицита/недостаточности витамина D. Так, по данным Бразильского исследования (2018), у 28,2% жителей Бразилии имеется дефицит, еще у 45,3% – недостаточность витамина D, у жителей очень солнечной Саудовской Аравии частота дефицита витамина D оказывается еще выше (по разным оценкам, 63,5–83,6%) [15–17].
С возрастом количество людей в мире с дефицитом витамина D увеличивается до 80–90% даже в странах и регионах вне зоны витаминной зимы с достаточным уровнем инсоляции. Таким образом, с увеличением возраста современного человека частота и степень выраженности дефицита/недостаточности витамина D неуклонно увеличиваются, что сопровождается формированием разнообразных возрастассоциированных заболеваний. Последние научные данные свидетельствуют о том, что низкий уровень витамина D достоверно связан с высоким риском общей смертности, а также риском сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, саркопении (дефицита мышечной массы), ожирения, метаболического синдрома (МС), остеопороза, а также инсулинорезистентности (ИР), гиперинсулинемии и сахарного диабета (СД) обоих типов у взрослых людей [18–32].
Низкий уровень витамина D имеет прямое отношение к повышенной смертности мужчин [33–35]. Одновременный дефицит витамина D и тестостерона – достоверный фактор повышенного риска фатальных событий у мужчин, подвергнутых коронарографии [36]. В настоящее время установлено, что дефицит витамина D независимо повышает риск смертности от онкологических заболеваний на 14%, а риск смертности от всех причин на 35% [37, 38].
Витамин D и андрогены у мужчин. В многочисленных исследованиях выявлены сезонные колебания уровня витамина (гормона) D в крови с высоким его уровнем летом и осенью и низким – зимой и весной, которые совпадают с аналогичными годичными циклами колебаний уровня тестостерона у мужчин, что отражает тесное взаимодействие андрогенов и витамина D в регуляции функций мужского организма, поскольку витамин D усиливает экспрессию андрогеновых рецепторов и улучшает синтез эндогенного тестостерона в яичках, а андрогены в свою очередь регулируют экспрессию рецепторов к витамину D [39–41]. Эти данные позволяют предположить, что дефицит андрогенов может гипотетически усиливать неблагоприятные для здоровья последствия дефицита витамина D [42].
Крупномасштабное многоцентровое европейское исследование EMAS (2012) выявило независимые корреляции между уровнем витамина D и андрогенов у мужчин, согласно которым уровень витамина D положительно коррелировал с уровнем общего и свободного тестостерона крови и отрицательно – с уровнем эстрадиола и лютеинизирующего гормона при поправках на возраст [43].
Дополнительно дефицит витамина D достоверно ассоциировался с компенсированным и вторичным гипогонадизмом, что подтверждает результаты исследований, показывающих, что ликвидация дефицита/недостаточности витамина D у мужчин потенциально способна улучшать показатели андрогенного статуса при наличии гипогонадизма без назначения андрогензаместительной терапии по мере повышения плазменного уровня витамина D [44–46].
Кроме того, в ходе исследования EMAS (2012) были также подтверждены сезонные колебания уровня витамина D в крови мужчин по аналогии с тестостероном, что является еще одним доказательством наличия положительной двусторонней связи между этими гормонами [43].
Таким образом, между андрогенным и D-статусом у мужчин существуют тесные патогенетические связи и взаимодействия.
Витамин D и компоненты МС. Что касается МС, то в связи с широким спектром «неклассических» физиологических эффектов витамина D фундаментального характера связь нарушений его обмена со всеми компонентами МС представляется также очевидной и она, в частности, объясняет мировые тренды увеличения распространенности его в современной популяции как среди взрослых, так и среди детей, а именно: с увеличением частоты дефицита/недостаточности витамина D наблюдается увеличение частоты МС, в том числе в связи с увеличением возраста, что доказано многими исследованиями [47–51].
Для объяснения тесной связи дефицита/недостаточности витамина D и ожирения у мужчин существует точка зрения, согласно которой у них возникает индивидуальный андрогенный дефицит (снижение экспрессии генов стероидогенеза, регулируемых витамином D), что приводит к нарушению соотношения жирозапасающих (пролактин, инсулин, кортизол) и жиросжигающих (гормон роста, половые гормоны, тиреоидные гормоны, мелатонин, витамин D) факторов с преобладанием первых, а развивающееся ожирение способствует дальнейшему уменьшению уровня циркулирующего в крови тестостерона и витамина D за счет повышенного захвата последнего клетками жировой ткани (адипоциты жировой ткани могут депонировать до 50% всего эндогенного витамина D, который в данном случае является биологически не доступным для клеток и тканей) [52].
С другой стороны, пациенты с ожирением часто избегают бывать на солнце, которое необходимо для синтеза витамина D в кератиноцитах кожи, так как страдают соматическими заболеваниями (прежде всего сердечно-сосудистыми), не позволяющими им долго находиться под прямыми лучами солнца [53]. Кроме того, дефицит витамина D независимо приводит к развитию дислипидемии (низкий уровень ЛПВП), поэтому низкий уровень витамина D в крови рассматривается многими экспертами как независимый предиктор ожирения [54, 55].
Негативные эффекты ожирения могут объяснять наличие взаимосвязи низкого уровня витамина D в крови, с одной стороны, и ИР/гиперинсулинемии и СД 2 типа, которым мужчины с дефицитом/недостаточностью витамина D страдают достоверно чаще, чем мужчины в общей популяции, с другой, хотя точные механизмы остаются не до конца понятными [29, 56–59].
Однако доподлинно известно, что витамин D участвует в механизмах промоции и транскрипции гена инсулина человека и регулирует внеклеточный и внутриклеточный обмен кальция, необходимого для инсулиноопосредованных внутриклеточных процессов в инсулинзависимых тканях (скелетные мышцы, жировая ткань, печень) [60–62].
Изменения внутриклеточного уровня кальция могут иметь неблагоприятные последствия для секреции инсулина, процесс синтеза которого опосредован кальцием [63]. Кроме того, при дефиците витамина D снижаются его противовоспалительные и иммуномодулирующие эффекты, и это приводит к развитию хронического субклинического воспаления, способного индуцировать разнообразные метаболические феномены, включая развитие ожирения и далее ИР/гиперинсулинемии [64, 65]. В связи с этим ликвидация дефицита/недостаточности витамина D благоприятно влияет на эффекты эндогенного инсулина, стимулируя экспрессию инсулиновых рецепторов и тем самым улучшая инсулинопосредованный внутриклеточный транспорт глюкозы [62].
В последнее время появились публикации, посвященные изучению эндотелийпротективных эффектов витамина D, что крайне важно с позиций патогенетической роли эндотелиальной дисфункции в реализации негативных клеточных и тканевых эффектов МС. Так, показано, что дефицит витамина D вызывает гипертрофическое сосудистое ремоделирование в результате пролиферации гладкомышечных клеток сосудов и увеличения уровня вазоконстрикторных простаноидов. Кроме того, в этих условиях существенно уменьшаются экспрессия eNOS и синтез оксида азота (NO), что заканчивается дисфункцией эндотелия, которая достоверно (примерно в 7 раз) повышает риски сосудистых неблагоприятных событий [66–68].
По данным A. M. Alyami et al. [69], после поправки по возрасту, полу и индексу массы тела (ИМТ) больных между уровнем витамина D, с одной стороны, и уровнями триглицеридов (ТГ), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и маркеров эндотелиальной дисфункции (фактором эндотелиальной активации [фактором роста гепатоцитов [HGF] и молекулами адгезии сосудистых клеток [sVCAM]), с другой, были выявлены достоверные корреляции.
В связи с этим ряд авторов рассматривают компенсацию дефицита/недостаточности витамина D как перспективную фармакотерапевтическую опцию в отношении лечения эндотелиальной дисфункции, однако эту точку зрения разделяют не все эксперты [70–72].
Таким образом, дефицит/недостаточность витамина D находится в тесных патофизиологических связях со всеми традиционными компонентами МС (ожирение, ИР, дислипидемия, системное хроническое воспаление, эндотелиальная дисфункция), многие механизмы которого продолжают активно изучаться в настоящее время.
Витамин D и предстательная железа. В клетках мужского урогенитального тракта, включая предстательную железу, также имеются рецепторы к витамину D, что позволяет высказать предположение о его важной роли в обеспечении нормального анатомо-функционального состояния мужской мочеполовой системы [73, 74].
Вместе с тем современные эпидемиологические исследования свидетельствуют о сравнительно высокой частоте дефицита/недостаточности витамина D у больных урологического профиля. Так, M. S. Pitman et al., изучив D-статус у 3763 мужчин из урологических баз медицинских данных пришли к выводу, что до 68% урологических пациентов имеют неадекватный уровень витамина D, 52% из них имеют дефицит или недостаточность витамина D. Согласно полученным данным, наиболее часто D-дефицит выявлялся у пациентов моложе 50 лет (44,5%), чернокожих (53,2%) или мужчин испанской расы (41,6%), в мультивариационном анализе раса, возраст, время года или диагноз рака были независимым предиктором нарушений D-статуса [75].
Доступные к настоящему времени результаты исследований патофизиологической роли витамина D при заболеваниях предстательной железы довольно неоднородны, а порой противоречивы. Так, показана важная роль дефицита витамина D в инициации, прогрессировании и прогнозировании рака предстательной железы. H. E. Meyer et al. в контролируемом исследовании выявили положительные корреляции между плазменным уровнем витамина D >30 нмоль/л и более низким риском рака простаты [24].
При оценке плазменных уровней витамина D у мужчин с аденомой предстательной железы (АПЖ) и раком простаты польские исследователи выявили, что у больных раком имеет место более тяжелый дефицит витамина D по сравнению с мужчинами с АПЖ [76].
При обследовании 667 мужчин в возрасте от 40 до 79 лет, впервые подвергшихся диагностической биопсии предстательной железы, установлено, что плазменный уровень витамин D <12 нг/мл (дефицит) у американцев европейского происхождения достоверно ассоциировался с более злокачественным раком предстательной железы по шкале Глиссона (4+4) и более запущенной стадией заболевания (≥cT2b против ≤cT2a). У афроамериканцев выявлено достоверное повышение позитивной частоты биопсийного рака простаты при уровне витамина D в плазме крови <20 нг/мл [77].
По данным, дефицит витамина D ассоциируется с увеличением риска развития более агрессивного рака предстательной железы пациентов с повышенным уровнем простатспецифического антигена (ПСА) крови или подозрением на рак по результатам пальцевого ректального исследования предстательной железы. В связи с этим предварительное определение уровня витамина D в крови перед пункционной биопсией предстательной железы у этих категорий пациентов может иметь важное значение с точки зрения прогнозирования положительных или отрицательных результатов биопсии [78].
Витамин D и АПЖ. В настоящее время доступен довольно обширный научный материал, отражающий роль нарушений обмена витамина D в патогенезе АПЖ [79–81]. Ряд авторов указывают на факт относительно более высокого уровня витамина D в крови у больных АПЖ по сравнению с больными раком простаты, хотя в обеих популяциях его уровень был достоверно ниже, чем у здоровых добровольцев [76, 82].
В мультивариационном анализе гиповитаминоз D оказался независимым предиктором тяжести симптомов нижних мочевыводящих путей (СНМП) по шкале IPSS и большего объема предстательной железы, а между сывороточным уровнем витамина D, СНМП/АПЖ и СД 2 типа у мужчин были выявлены достоверные корреляционные связи, что позволяет рассматривать низкий уровень витамина D в крови мужчин в качестве потенциального маркера АПЖ [83–86].
Рецепторы к витамину D широко представлены в клетках нижних мочевых путей и предстательной железы, причем из изучаемых в настоящее время пяти генов, которые могли бы обладать потенциальным протективным эффектом в отношении снижения риска развития СНМП (ACE, ELAC2, GSTM1, TERT, VDR), только ген рецептора к витамину D (VDR) продемонстрировал такие свойства в различных популяциях мужчин [87]. Полиморфизм гена рецептора витамина D достоверно коррелирует с частотой АПЖ, осложненной гистологическим простатитом [74, 88–91].
Хроническое воспаление предстательной железы (хронический простатит) в настоящее время рассматривается как потенциальный патогенетический механизм простатической пролиферации [92].
Из экспериментальных исследований известно, что блокада рецепторов к витамину D в ткани предстательной железы приводит к развитию аутоиммунного хронического воспаления (простатит), который может предшествовать АПЖ или (чаще всего) сочетается с ней [93–96].
Таким образом, дефицит витамина D может быть одним из патофизиологических механизмов, опосредующих участие хронического воспаления в патогенезе АПЖ. Роль нарушений обмена витамина D в патогенезе хронического инфекционного простатита может оказаться довольно существенной, поскольку у витамина D и его метаболитов выявлены выраженные антибактериальные свойства, связанные с доказанным участием витамина D в активации в иммунокомпетентных клетках синтеза белков кателицидинов, реализующих реакции врожденного иммунитета [80, 97, 98].
В других исследованиях показано, что уровень витамина D, общего альбумина, скорректированного по сывороточному кальцию, глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПС), и ЛПВП находятся в достоверной обратной связи с объемом предстательной железы, поэтому витамин D может участвовать в простатической пролиферации опосредованно через дислипидемию [23].
У витамина D выявлены выраженные противовоспалительные свойства: он ингибирует ROK-киназу, циклоксигеназу-2 (ЦОГ-2), простагландины Е2, фактор некроза опухоли α (ФНОα) и интерлейкин (ИЛ) 8, участвующие в механизмах неинфекционного асептического воспаления в стромальных клетках простаты [99]. Кроме того, витамин D стабилизирует простатический уровень 5α-ДГТ за счет активации тестикулярного стероидгенеза и увеличения уровня эндогенного тестостерона, что свидетельствует о наличии у витамина D свойств природного непрямого ингибитора 5α-редуктазы и выраженных антипролиферативных свойств [80]. Антипролиферативное влияние витамина D на ткань предстательной железы может быть дополнительно опосредовано его способностью ингибировать избыточный инсулиновый клеточный сигнал (уровень инсулина и ИФР-1), ответственный за включение механизмов пролиферации клеток предстательной железы. В итоге нормализация уровня витамина D при его дефиците способна привести к достоверному уменьшению объема предстательной железы [100]. Еще одной точкой приложения позитивных эффектов витамина D при АПЖ может быть ткань уретры, в которой, согласно результатам иммуногистохимических исследований, экспрессия рецепторов к витамину D выражена гораздо больше, чем в мочевом пузыре или предстательной железе [101]. В этом случае эффекты витамина D могут опосредоваться за счет его способности ингибировать синтез ИЛ-8, ЦОГ-2, интерферона-γ и ФНОα, что ведет к уменьшению интенсивности хронического воспаления в уретре, простате и слизистой мочевого пузыря и снижению активности системы RHO-киназ (ROCK) – ключевой ферментной системы, активация которой приводит к локальному мышечному спазму не за счет изменения уровня кальция в миоцитах, а за счет повышения их чувствительности к кальцию (кальцийнезависимая мышечная контрактильность) [102–104].
Назначение аналога витамина D (элокальцитола) в этих случаях способно ликвидировать указанные нарушения [105]. Дополнительно дефицит витамина D может приводить к снижению количества и качества мышечной массы органов малого таза и тазового дна, поскольку он вместе с андрогенами и гормоном роста обладает выраженными анаболическими эффектами на мышечную ткань, активируя синтез мышечных белков в миоцитах независимо от их локализации (скелетные мышцы, гладкие мышцы, кардиомиоциты) [106–109].
У больных АПЖ и дефицитом витамина D концентрация альдостерона в ткани предстательной железы и уровень сывороточного ПСА статистически достоверно выше, чем у здоровых добровольцев, что может отражать роль дефицита витамина D в активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, принимающей участие в процессах простатической гиперплазии [110].
Таким образом, дефицит витамина D оказывает достоверное негативное влияние на гормонально-метаболический баланс предстательной железы, ключевыми патофизиологическими механизмами которого, согласно обобщенным данным доступной литературы, можно рассматривать следующие:
- индукция и прогрессирование ожирения с усилением всех его негативных клеточных метаболических эффектов, включая пролиферативные;
- индукция и прогрессирование ИР с усилением всех ее негативных клеточных метаболических эффектов, включая пролиферативные;
- индукция и прогрессирование дефицита тестостерона у мужчин;
- эндотелиальная дисфункция (дефицит эндотелийпротективных эффектов витамина D);
- хроническое субклиническое воспаление, опосредованное избыточными цитокиновыми реакциями провоспалительного характера на фоне недостаточности реакций противовоспалительной защиты, запускающее окислительный стресс (дефицит противовоспалительных эффектов витамина D);
- снижение синтеза мышечных белков в мышцах мочевого пузыря, простаты, уретры, тазового дна (дефицит антисаркопенических эффектов витамина D);
- нарушения локального простатического иммунитета (дефицит иммуномодулирующих эффектов витамина D);
- снижение природной бактерицидной функции предстательной железы (витамин D – естественный антибиотик);
- активация простатической 5α-редуктазы, ИФР-1 и простатической гиперплазии;
- активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы предстательной железы.
Заключение. Результаты современных доказательных исследований взаимосвязи между МС и АПЖ достоверно свидетельствуют о том, что оба заболевания имеют очень схожие патогенетические механизмы, что объясняет их современные эпидемиологические тренды: увеличение распространенности с возрастом в популяции и наблюдающийся феномен их омоложения. Сегодня в литературе высказывается еще более смелая точка зрения, согласно которой гормонально-метаболические механизмы компонентов МС и АПЖ настолько тесно взаимосвязаны, что оба заболевания имеют общую патогенетическую сущность, что позволяет рассматривать АПЖ как потенциально новый «неклассический» компонент МС у мужчин. Драматическое увеличение распространенности МС и АПЖ в популяции мужчин в настоящее время происходит на фоне еще одной мировой метаболической пандемии – дефицита/недостаточности витамина D у детей и взрослых, частота и степень выраженности которого, как и в случае с МС и АПЖ, также увеличивается с возрастом. Современные исследования в области эндокринологии витамина D позволяют однозначно говорить о нем как о фундаментальном стероидном гормоне, обладающем спектром позитивных классических и неклассических гормонально-метаболических эффектов. В настоящее время получены убедительные данные: патофизиологическая взаимосвязь МС и АПЖ может осуществляться в том числе и через витамин D-опосредованные реакции гормонально-метаболической направленности. В связи с этим с учетом высокой распространенности нарушений обмена витамина D, МС и АПЖ в современной мужской популяции максимально ранняя диагностика и коррекция дефицита/недостаточности витамина D может рассматриваться как эффективная патогенетическая первичная и вторичная профилактика как МС, так и АПЖ.