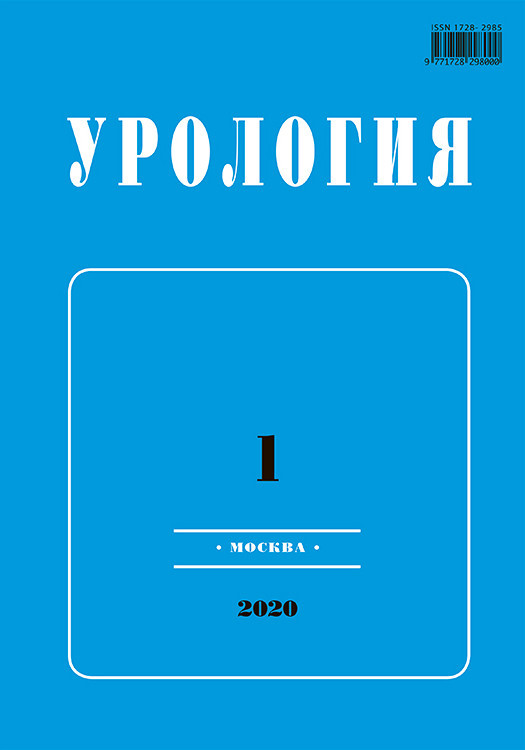Введение. Симптомы нижних мочевыводящих путей (СНМП) служат причиной снижения качества жизни 15–25% мужчин в возрасте 60–65 лет [1]. Наиболее часто появление данных жалоб связывают с развитием доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Частота развития ДГПЖ увеличивается с возрастом, составляя приблизительно 25% среди мужчин в возрасте 40–49 лет и достигая 80% и более среди пациентов старше 70 лет [2]. Доброкачественная гиперплазия – это гистологический диагноз, обозначающий пролиферацию гладкомышечных и эпителиальных клеток переходной зоны предстательной железы. Однако не у всех мужчин с ДГПЖ отмечаются СНМП, и, наоборот, у ряда пациентов СНМП служат проявлением других урологических и неурологических заболеваний [3].
Симптомы нижних мочевыводящих путей подразделяют на три группы – обструктивные, ирритативные и постмикционные [4]. К первой группе относятся вялая струя мочи и необходимость напряжения брюшной стенки, ко второй – позывы на мочеиспускание, учащенное мочеиспускание днем и ночью, к третьим – чувство неполного опорожнения мочевого пузыря и подтекание мочи после акта мочеиспускания. В литературе выделяют два возможных механизма развития обструктивных симптомов: механическая обструкция в результате удлинения и сужения диаметра простатического отдела уретры, что увеличивает уретральное сопротивление при мочеиспускании; повышение тонуса гладкомышечной мускулатуры шейки мочевого пузыря и простатического отдела уретры, зависимого от α1А-адренорецепторов [4].
В развитии ирритативных жалоб также выделяют несколько механизмов, в основе которых лежат гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП), терапия которого традиционно проводится с использованием м3-холиноблокаторов, а также нарушение кровообращения в стенке мочевого пузыря [5]. В большинстве случаев преобладание ирритативных жалоб мужчин расценивается урологами как проявление хронического простатита на фоне ДГПЖ, так как антибактериальная и противовоспалительная терапия в ряде случаев позволяет достигать значимого клинического улучшения [6]. Большая распространенность трансректальной биопсии предстательной железы пациентов с объемным увеличением простаты приводит к увеличению их доли с преобладанием ирритативных жалоб [7]. Результаты последних исследований показывают, что описанные выше жалобы в различных сочетаниях отмечают более чем 2/3 пациентов [8].
Согласно рекомендациям большинства экспертных урологических сообществ, выявление осложнений ДГПЖ служит показанием к проведению оперативного лечения [9]. Последнее показано также при резистентности СНМП к консервативному лечению или недостаточной эффективности медикаментозной терапии.
Значительный прогресс в медикаментозном лечении связан с лучшим пониманием патофизиологии СНМП, наличием различных классов препаратов для их коррекции и с возможностью комбинированного воздействия [10]. Помимо традиционных α-адреноблокаторов используются ингибиторы 5α-редуктазы, м3-холиноблокаторы, ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа, β3-адреномиметики [11].
Трансуретральная резекция предстательной железы (ТУРП) является стандартом оперативного лечения ДГПЖ. Функциональные результаты данного метода лечения хорошо изучены. Оперативное лечение приводит к снижению суммарной оценки IPSS на 8–10, улучшению качества жизни – на 1–2 балла, увеличению максимальной скорости мочеиспускания, уменьшению объема остаточной мочи и нормализации размеров простаты [12]. Как показывает практика, ТУРП является общим термином, отражающим лишь проведенное оперативное лечение. В зависимости от конкретной клинической ситуации (размер простаты, форма роста, предпочтения оперирующего уролога, прием антикоагулянтов, желание сохранить антеградную эякуляцию) могут быть использованы инцизия, вапоризация, резекция и энуклеация, которые чаще всего в финальном протоколе операции называют «ТУР простаты» [13].
Позднее хирургическое вмешательство при развитии осложнений заболевания обусловливает худшие, чем при выполнении операции до развития осложнений, функциональные результаты. С другой стороны, выполнение операции пациентам с тяжелыми СНМП даже в отсутствие осложнений сопровождается резидуальными СНМП средней тяжести, которые в свою очередь требуют продолжения консервативного лечения [14].
К сожалению, 20–50% пациентов, перенесших оперативное вмешательство, продолжают испытывать резидуальные СНМП [15]. Как показывает практика, обструктивные СНМП лучше подвергаются хирургической коррекции, а плохое качество жизни после операции в большинстве случаев связано с тем, что пациент продолжает испытывать симптомы гиперактивности детрузора [16].
Несмотря на массу публикаций по данной теме, в них обычно отмечается важность предоперационной оценки обструктивных и ирритативных СНМП, но не приводится анализ их динамики после операции в зависимости от объема простаты [17]. Не до конца изучены вопросы о факторах риска персистирования СНМП после операции, не разработаны меры профилактики в зависимости от исходной клинической картины.
В настоящем обзоре литературы проведен анализ данных о патофизиологии СНМП после операции, их диагностике, факторах риска их развития и подходах к их коррекции.
Частота развития резидуальных СНМП в зависимости от методики ТУРП
Трансуретральная резекция предстательной железы служила «золотым» стандартом оперативного лечения ДГПЖ на протяжении последних десятилетий [18]. В течение последних 10 лет в клиническую практику последовательно внедрялись новые электрохирургические и лазерные технологии. Каждый новый метод сравнивали с ТУРП. В основную группу набирались пациенты, которым оперативное лечение проводилось с использованием нового метода, в контрольную – больные, которым выполнялась трансуретральная резекция предстательной железы. Поэтому эффективность метода и частота осложнений многократно изучались на контрольной группе пациентов в подобных исследованиях [19]. В настоящее время биполярные электрохирургические технологии демонстрируют эффективность, сопоставимую с классической монополярной ТУРП при более высоких показателях безопасности для пациента. При сравнении показателей шкалы IPSS и индекса качества жизни QoL в проспективном рандомизированном исследовании с участием 497 пациентов (246 биполярных резекций и 251 монополярная) спустя 3,6; 9 и 12 мес., а затем и через 36 мес. различий не было получено. Небезынтересен следующий факт: в группе пациентов после монополярной резекции отмечена более высокая частота развития стриктур бульбозного отдела уретры – 2,78 против 0,4% (p=0,002) [4]. Другой ретроспективный анализ результатов выполнения трансуретральных резекций при больших размерах предстательной железы (объем простаты более 80 см3) также не выявил значимых различий в эффективности моно- и биполярных трансуретральных вмешательств [5].
Лазерные технологии, а именно калий-титанил-фосфатный лазер («зеленый лазер»), получили широкое распространение в клинической практике благодаря простоте выполнения лазерной вапоризации, отсутствию кровотечения и возможности выполнения операции в условиях стационара кратковременного пребывания. Рандомизированное контролируемое исследование по сравнению эффективностью лазерной вапоризации 120W «зеленым лазером» с монополярной ТУРП показало сходные средние значения балла IPSS спустя 12 мес. в обеих группах (5 для ТУРП против 6 для лазерной вапоризации, p=0,494) [6]. Другие показатели: максимальная объемная скорость, объем остаточной мочи, показатели качества жизни, при их оценке через 12 мес. также значимо не различались [7]. Подобные результаты получены в исследовании GOLIATH, многоцентровом проспективном рандомизированном по сравнению с 120W «зеленого лазера» и монополярной ТУРП у 281 пациента (136 – «зеленый лазер», 133 – монополярная ТУРП). Спустя 24 мес. после операции не было выявлено значимых различий в среднем показателе баллов IPSS. Резидуальные СНМП, включая ирритативные симптомы, недержание мочи и задержку мочеиспускания по шкале Clavien–Dindo I степени, встречались чаще в группе лазерной вапоризации – 30 против 22% в группе монополярной ТУРП [6]. Как при сравнении результатов трансуретральной резекции предстательной железы с таковыми лазерной вапоризации 120W «зеленым лазером», так и при использовании 80W «зеленого лазера» были также получены сходные сравнительные данные в отношении показателей IPSS в двух группах [7].
В других публикациях были представлены сведения о большей частоте ирритативных расстройств после лазерной вапоризации по сравнению с ТУРП. J. Pereira-Correia et al. [20] проводили исследование «давление–поток» после вапоризации «зеленым лазером» и после ТУРП. Авторами была показана значительная (50%) частота возникновения ургентного недержания мочи после лазерной вапоризации, тогда как после ТУРП такого осложнения не было.
При сравнении исходов лазерной вапоризации 80W и 120W «зеленым лазером» более высокая частота ирритативных расстройств мочеиспускания отмечена в раннем послеоперационном периоде: 43% в течение первой недели, 27% в течение первого месяца, 14% через 3 мес. Полностью ирритативные СНМП исчезали к 6-му месяцу после операции. Основной причиной возникновения данных жалоб было раздражение детрузора при заживлении раны в простатическом отделе уретры, так как до операции ни в одном случае не было выявлено гиперактивности детрузора по результатам исследования «давление–поток» [8]. В настоящее время не полностью изучена послеоперационная симптоматика после трансуретральной инцизии, особенно при ее выполнении при объеме простаты более 30 см3 и энуклеации ДГПЖ при различных объемах и формах роста узлов гиперплазии.
Патофизиология СНМП после трансуретральных операций на предстательной железе
Наиболее распространенной теорией персистирования СНМП после оперативного лечения является изменение функции мочевого пузыря вследствие длительной инфравезикальной обструкции. Оперативное лечение устраняет препятствие оттоку мочи, однако длительное функционирование в условиях повышенного внутрипузырного давления приводит к гипертрофии детрузора, уменьшению цистометрической емкости детрузора и низкому комплаенсу [21]. Гипертрофия детрузора сопровождается нарушением кровообращения в его стенке, особенно в подслизистом слое, что в конце концов приводит к гипотонии выталкивающей мочу мышцы с развитием псевдодивертикулов. Сосудистые заболевания (атеросклероз, артериальная гипертензия) и болезни, приводящие к вторичному поражению сосудов (сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром), могут усугублять ситуацию [21]. Такие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, как курение и гиперлипидемия, служат факторами риска персистирования СНМП после операции.
Снижение кровотока в стенке мочевого пузыря выявлено в нескольких исследованиях по изучению причин персистирующих СНМП после оперативного лечения [21]. Ретроспективное исследование из Тайваня показало, что пациенты с сахарным диабетом по сравнению с больными без диабета нуждаются в приеме м-холиноблокаторов в течение 3 мес. после ТУРП (ОР=1,23, р=0,032) и α-адреноблокаторов в течение 12 мес. после операции (ОР=1,18, р=0,049) [11]. Кроме того, показано, что у большинства пациентов отмечается сочетание вышеуказанных факторов риска. Изменения в стенке мочевого пузыря отмечены и на молекулярном уровне, что подтверждено данными иммуногистохимического исследования. Сравнение биоптатов стенки мочевого пузыря пациентов с задокументированной инфравезикальной обструкцией перед планируемым оперативным лечением и относительно здоровых пациентов с показателями IPSS менее 8 и объемом простаты менее 30 см3 показало, что в первой группе определяется повышенная экспрессия коллагена I и III типов, фактора роста сосудов VEGF, усиление активности м-холинорецепторов 2-го и 3-го типов и снижение выработки СD105, MMP-9 и TIMP-1. Повышение экспрессии коллагена I и III типов и снижение выработки ММР-9, ответственного за выработку коллагена IV, преобладающего в мягкоэластической соединительной ткани, могут соответствовать типовым структурным изменениям детрузора при инфравезикальной обструкции. Повышенная экспрессия м2- и м3-холинорецепторов, стимуляция которых вызывает сокращения детрузора, обеспечивает развитие гиперактивности детрузора, подавление последней служит терапевтической точкой приложения м-холиноблокаторов в лечении СНМП. Более того, повышение экспрессии VEGF указывает на возможную связь СНМП и факторов риска развития атеросклероза [12]. Еще одним фактором, который может влиять на развитие СНМП, является воспаление, признаки которого были выявлены в 98,1% случаев при гистологическом исследовании удаленных тканей, полученных от 162 пациентов, перенесших ТУРП [22].
Способствует ли возрастной гипогонадизм персистенции СНМП при ДГПЖ, до конца не ясно. С одной стороны, заместительная гормональная терапия тестостероном противопоказана при выраженных СНМП, так как может спровоцировать рост предстательной железы. С другой стороны, в ходе проведенного нами ранее исследования по изучению влияния возрастного гипогонадизма на течение послеоперационного периода установлено, что заместительная терапия тестостероном при наличии возрастного андрогенного дефицита улучшает состояние пациентов после операции, снижая выраженность резидуальных СНМП [23]. Ретроспективное исследование c участием 280 пациентов с СНМП вследствие ДГПЖ, которые получали консервативное лечение или были прооперированы, показало отрицательную корреляцию между общим баллом по шкале IPSS и уровнем общего тестостерона. К недостаткам данного исследования следует отнести отсутствие контроля за показателями других гормонов – фолликулостимулирующего, лютеинизирующего, эстрадиола, пролактина и прогестерона. Кроме того, показатель ноктурии был негативно связан с содержанием общего тестостерона. Несмотря на неоднозначность данных и до конца не ясную роль половых гормонов в генезе персистирующих СНМП после операции, иммуногистохимическими исследованиями доказано наличие андрогенных рецепторов в уротелии простатического отдела уретры и шейки мочевого пузыря [13]. С другой стороны, масштабное обследование 5506 взрослых пациентов в возрасте от 30 до 79 лет показало, что если принять во внимание возрастные нормы половых гормонов, уровень последних не является значимым прогностическим критерием персистенции СНМП у мужчин [24]. Анализ результатов применения различных лазеров в лечении ДГПЖ, в том числе и калий-титанил-фосфатного лазера, позволил высказать предположение, будто в ряде случаев причиной резидуальных ирритативных симптомов является зона глубокого некроза в результате избыточной или недостаточной передачи энергии. Для изучения этого эффекта 10 пациентам, перенесшим лазерную вапоризацию с использованием 180W «зеленого лазера» со средним уровнем энергии 172 кДж, была проведена мультипараметрическая МРТ малого таза. Спустя 2 и 7 дней после операции зона некроза, по данным МРТ, составила 2,5 и 1,3 мм соответственно. Несмотря на гомогенность некротических масс, авторами был сделан вывод: зона некроза может служить причиной персистенции СНМП вплоть до 3 мес. с момента операции [14].
Факторы риска персистенции СНМП после ТУРП
Определение критериев риска сохранения СНМП остается актуальным вопросом урологии, так как сможет повысить качество лечения пациентов путем их раннего информирования о возможных проблемах после операции.
В качестве подобных критериев были предложены возраст пациента, выраженность СНМП и их соотношение, форма роста и объем предстательной железы, состояние мочевого пузыря до операции, возрастной андрогенный дефицит, метаболический синдром и др. [25]. Изучение молекулярных биомаркеров является новым перспективным направлением в данном вопросе, однако требующнм проведения дополнительных исследований.
Возраст пациента. Результаты нескольких исследований показали, что более пожилой возраст пациента связан с проявлениями гиперактивности детрузора и, соответственно, с сохранением ирритативных СНМП (69 лет против 63, р=0,043) [26].
К причинам подобных тенденций относятся большая продолжительность заболевания от его начала до момента операции, наличие у более пожилых пациентов вышеупомянутых факторов риска развития сосудистых заболеваний (сахарный диабет, атеросклероз, артериальная гипертензия), которые приводят к вторичному поражению мочевого пузыря. Согласно результатам видеоуродинамического исследования, проведенного на 11 пациентах в возрасте 70 лет с признаками гиперактивности детрузора, перенесшими ТУРП, изменение тонуса детрузора имело место лишь у 1 прооперированного спустя 7 нед. после операции. Авторы исследования также делают вывод, согласно которому у пациентов пожилого и старческого возраста гиперактивность детрузора и стрессовое недержание мочи могут быть связанными с нормальными процессами старения и не являться результатом инфравезикальной обструкции, несмотря на то что у подавляющего большинства мужчин в данном возрасте в предстательной железе имеются гистологические признаки ДГПЖ [27].
Выраженность СНМП перед операцией. Влияние степени тяжести СНМП до операции на ее результаты неоднозначно. Вероятнее всего, это связано с тем, что в большинстве исследований до операции СНМП не разделяют на обструктивные и ирритативные, так как это не является общепринятым [26].
В нескольких исследованиях показано, что СНМП сильной степени тяжести обусловливают худший послеоперационный прогноз в отношении улучшения СНМП. Наличие терминальной гиперактивности детрузора негативным образом связано со степенью улучшения СНМП после ТУРП [27]. Низкая цистометрическая емкость (менее 250 мл), ранняя гиперактивность детрузора с перепадами давления более 40 см водн.ст. служат прогностическими критериями сохранения гиперактивности детрузора после устранения инфравезикальной обструкции [27]. Неблагоприятными прогностическими факторами сохранения СНМП по прошествии 6 мес. после операции являются изначальное преобладание симптомов наполнения, низкая функциональная емкость мочевого пузыря и нарушение сократимости мочевого пузыря [28]. С другой стороны, результаты многочисленных исследований показывают, что оперативное лечение более эффективно для пациентов с высокими показателями IPSS [25–27]. К сожалению, авторы не выделяют из суммарной оценки баллы, полученные при оценке по подшкалам ирритативных и обструктивных симптомов, поэтому сложно сказать, что лежит в основе данных противоречий. Например, M.-C. Cho et al. [28] показали, что больные более выраженными СНМП будут отмечать более выраженное улучшение по сравнению с другими пациентами. N. Seki et al. [29] также отметили связь между исходным состоянием детрузора и улучшением ирритативных симптомов после хиругического лечения и подчеркнули важность хорошей исходной сократимости детрузора в симптоматическом улучшении после оперативного устранения инфравезикальной обструкции.
Внутрипузырная протрузия. Многочисленными исследованиями показано, что пациенты с внутрипузырным ростом предстательной железы, наличием средней доли испытывают более выраженное симптоматическое улучшение после операции [30]. Классическая точка зрения состоит в том, что внутрипузырную протрузию определяют при УЗИ или цистоскопии, при этом по степени выраженности выделяют три подгруппы: А – менее 0,5 см, B – 0,5–1,0 см, С – более 1 см. D. Wang et al. [31] считают, что консервативное лечение пациентов со степенью протрузии С может носить лишь временный характер и больные должны быть информированы о необходимости операции. Вышеуказанная классификация, несмотря на свою практичность, не лишена ограничений, так как более 85% пациентов в данной публикации составили больные с объемом простаты менее 40 см3, т.е. она применима только для больных с небольшим размером предстательной железы [31]. Для желез среднего и большого объемов применим другой подход. Более 30% пациентов с размером простаты до 60 см3 имеют степень протрузии С, а при размере простаты более 60 см3 этот показатель уже превышает 80% [30]. Авторы данных исследований предлагают другой подход к определению протрузии и считают необходимым соотносить размер предстательной железы с объемом внутрипузырной части [30]. При соотношении менее 20% и отсутствии средней доли консервативное лечение возможно, в противном случае рекомендуется плановое оперативное вмешательство. По данному вопросу нет единой точки зрения. Авторы подчеркивают важность разделения фактов наличия средней доли и внутрипузырной протрузии, несмотря на то что более чем у 70% пациентов с большим размером предстательной железы отмечается их сочетание [31]. К другим аспектам данной проблемы относится неоднозначное влияние внутрипузырного компонента предстательной железы на состояние детрузора. Согласно одним исследованиям, внутрипузырная протрузия степени А приводит к гиперактивности детрузора. По данным других исследований, при более выраженной протрузии в ряде случаев отмечается гипотония детрузора в результате нарушения кровообращения в стенке мочевого пузыря [28].
3D-анатомия предстательной железы. Форма роста гиперплазии переходной зоны предстательной железы и ее размер ответственны за исходный уровень СНМП и, следовательно, могут влиять на исход операции. Форму роста узлов гиперплазии и их размеры важно соотносить с конституцией пациента. Для интегральной оценки этих взаимоотношений введено понятие «простатоуретральный угол» [32]. В случае если угол превышает 35°, с высокой вероятностью можно говорить о наличии инфравезикальной обструкции, требующей хирургического вмешательства. У пациентов с углом менее 35° высокоэффективной является длительная монотерапия α-адреноблокаторами. В качестве дополнительного критерия было предложено соотношение длины простатического отдела уретры и ширины предстательной железы. При преобладании продольных размеров монотерапия α-адреноблокаторами менее эффективна, чем при преобладании ширины. В качестве других критериев предложены длина простатического отдела уретры более 5 см и ширина предстательной железы более 4 см. Авторы отмечают необходимость проведения комбинированной терапии или оперативного лечения при размерах предстательной железы, превышающих вышеуказанные параметры [32].
Биомаркеры. Фактор роста нервов является небольшим сигнальным белком, который вырабатывается гладкими миоцитами детрузора и уротелием мочевого пузыря [33]. Его уровень в моче повышается у пациентов с ДГПЖ и наличием гиперактивности детрузора [33]. Возможным объяснением данного факта служит поражение афферентных нервных механизмов мочевого пузыря в результате хронического перерастяжения стенки мочевого пузыря при инфравезикальной обструкции, что потенцирует повышенную выработку фактора роста нервов [33]. Исходное содержание фактора роста нервов и его уровень в моче спустя год были значительно выше у пациентов с незначительным (<25%) и умеренным (25–49%) улучшением показателей IPSS на фоне лечения по сравнению с группой больных со значительным (более 50%) снижением балльной оценки по шкале IPSS [33]. Несмотря на очевидную необходимость проведения дальнейших исследований, авторы полагают, что определение базального уровня фактора роста нервов в моче может иметь прогностическое значение для определения эффективности консервативной терапии СНМП.
Возрастной андрогенный дефицит нередко сочетается с ДГПЖ, которая требует консервативного или оперативного лечения. В то же время наличие СНМП тяжелой степени, связанных с ДГПЖ, является относительным противопоказанием к заместительной терапии тестостероном. Несмотря на многочисленность публикаций, свидетельствующих о том, что возрастной гипогонадизм влияет на успех как консервативного, так и оперативного лечения, с июня 2015 по июнь 2016 г. в нашей клинике проведено исследование по данному вопросу [23]. Возрастной андрогенный дефицит был выявлен при предоперационном обследовании по поводу ДГПЖ у 87 пациентов. Диагноз устанавливали при уровне тестостерона в плазме крови ниже 12,1 нмоль/л.
В зависимости от критериев включения/исключения и проводимой заместительной гормональной терапии 60 пациентов были разделены на две группы по 30 человек. В основной группе с момента постановки диагноза и в течение 12 нед. после операции пациенты получали препарат тестостерона 50 мг в виде 1%-ного геля для наружного применения, контрольной группе заместительную гормональную терапию не проводили. Первичной конечной точкой исследования служил показатель либидо по данным шкал AMS и МИЭФ-5. Вторичными конечными точками являлись уровень общего тестостерона к моменту окончания лечения, частота геморрагических и инфекционно-воспалительных осложнений после операций, оценки по шкалам IPSS, QoL, объем простаты и скорость мочеиспускания. В основной группе пациентов дооперационный показатель AMS составил 48 баллов, МИЭФ-5 – 15; уровень тестостерона – 4,2 нмоль/л; после завершения лечения – 21, 22 балла, 18 нмоль/л соответственно. В контрольной группе указанные показатели в динамике наблюдения практически не изменились. Частота геморрагических осложнений в основной группе составила 3%, в контрольной – 10%, частота послеоперационного простатита – 6 и 13% соответственно. Различий в показателях объема простаты и скорости мочеиспускания не выявлено. Показатели IPSS и качества жизни были статистически не значимо лучше в основной группе. Не было отмечено нежелательных явлений, связанных с проведением заместительной гормональной терапии. По результатам исследования были сделаны выводы о целесообразности определения уровня тестостерона у пациентов с ДГПЖ и о более высоких показателях эффективности и безопасности оперативного лечения после коррекции исходного андрогенного дефицита. Послеоперационный период у пациентов с гипогонадизмом протекает тяжелее, чем у пациентов с нормальным уровнем тестостерона. Заместительная терапия тестостероном после ТУРП позволяет достигать сексуальной и социальной реабилитации пациентов.
Метаболический синдром. Метаболический синдром, который включает висцеральное ожирение, нарушение толерантности к углеводам, нарушение соотношения липопротеинов высокой и низкой плотности, развитие атеросклероза и невропатии, безусловно, является отрицательным прогностическим фактором персистирования СНМП после операции [34]. Ключевым механизмом служит нарушение вегетативной иннервации мочевого пузыря в результате нейропатии с преобладанием гиперактивности детрузора. Нарушение кровообращения в малом тазу таких пациентов служит причиной длительного заживления послеоперационной раны. В качестве дополнительного негативного фактора могут выступать провоспалительные цитокины, вырабатываемые висцеральным жиром, которые замедляют течение репаративных процессов в простатическом отделе уретры. Жировая ткань, являясь источником эстрогенов, может также обусловливать развитие возрастного гипогонадизма [34, 35]. M. Gacci et al. [34] провели рандомизированное проспективное исследование 378 мужчин с большими размерами ДГПЖ, которым проводилось либо открытое, либо эндоскопическое оперативное лечение с января 2012 по октябрь 2013 г. Симптомы нижних мочевыводящих путей оценивали по шкале IPSS перед операцией и спустя 6–12 мес. после. Общий балл IPSS и уровень симптомов накопления оказались связанными с показателем диастолического артериального давления и размером талии. Размер талии более 102 см был ассоциирован с повышенным риском персистенции СНМП в отношении как общего балла IPSS (ОР=0,343, p=0,001), так и баллов ирритативных симптомов IPSS (ОР=0,208, p<0,001) при сравнении с таковыми у нормостеников и худых пациентов [34].
Оценка СНМП после оперативного лечения
Расстройства мочеиспускания в раннем послеоперационном периоде являются естественным следствием операции и могут наблюдаться в течение 4–6 нед. после нее. Спустя 3 мес. мочеиспускание обычно нормализуется. К причинам персистирующих расстройств мочеиспускания в сроки до 3 мес. относятся инфекция мочевых путей, флотирующие неудаленные части ДГПЖ, в более позднем послеоперационном периоде – стриктуры мочеиспускательного канала и склероз шейки мочевого пузыря. Частота развития инфекционно-воспалительных осложнений после ТУРП варьируется от 1 до 20%, орхоэпидидимитов – от 1 до 7% [19]. Стриктуры уретры развиваются в 2–10% случаев и чаще всего служат следствием травматичного проведения по уретре резектоскопа большого размера [19]. Склероз шейки мочевого пузыря диагностируют у 0,3–9% пациентов, обычно после операций по поводу ДГПЖ небольшого объема. Частота повторных операций в течение года после ТУРП составляет 7,6%, после лазерных вапоризаций в течение 24 мес. – 9%. Причиной повторных операций стали неудаленные при первой операции ткани, стриктура уретры или склероз шейки мочевого пузыря [19]. Наличие клинических признаков гипотонии детрузора (большой объем остаточной мочи до операции, наличие дивертикулов мочевого пузыря) или выявление признаков гипотонии при исследовании «давление–поток» до операции повышает вероятность развития послеоперационной задержки мочеиспускания [28].
В отличие от стандартов первичной оценки пациента с СНМП в настоящее время отсутствует четкий алгоритм оценки послеоперационных расстройств мочеиспускания. В частности, нет точных критериев, на основании которых определялись бы показания к повторному эндоскопическому осмотру. Авторы большинства исследований сходятся в том, что сбор данных анкеты IPSS, уточнение динамики симптомов после операции, физикальный осмотр, получение результатов общего анализа и микробиологического исследования мочи необходимы для уточнения причины дизурии после операции [26].
В отсутствие признаков инфекции нижних мочевыводящих путей ультразвуковое исследование и урофлоуметрия могут быть выполнены дополнительно в отсутствие должного эффекта от лечения или персистенции симптомов более 4-6 нед. после операции [35]. После этого срока цистоскопия или исследование «давление–поток» являются методом, позволяющим устанавливать причину продолжающихся расстройств мочеиспускания. При цистоскопии можно установить диагноз стриктуры уретры, склероза шейки мочевого пузыря и выявить резидуальные ткани предстательной железы, оценить состояние наружного сфинктера. Уродинамическое исследование позволяет оценивать состояние мочевого пузыря, выявлять гиперактивность детрузора после операции [25]; считается оправданным, если у пациента имеет место недержание мочи в течение 6 мес. и более после ТУРП [26]. Большинство авторов сходятся во мнении, будто рутинно проводить уродинамическое исследование после операции не следует, однако оно показано в том случае, когда терапия СНМП после операции неэффективна.
Подходы к терапии СНМП после ТУРП
Терапевтические подходы к СНМП зависят от времени и причины их возникновения. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) рекомендованы в раннем послеоперационном периоде для облегчения болевого синдрома. Систематический обзор и мета-анализ, сравнивающий НПВП, плацебо и другие препараты для терапии СНМП, показали, что НПВП улучшают показатели IPSS и максимальную скорость мочеиспускания [22]. Между тем исследований по оценке длительной эффективности терапии НПВП после ТУРП в литературе недостаточно. A. Kahoker et al. [22] отметили преимущество диклофенака перед парацетамолом в отношении анальгетического эффекта в раннем послеоперационном периоде. В то же время способность НПВП снижать агрегацию тромбоцитов наталкивает на закономерные выводы о безопасности их использования в первые сутки после операции, когда вероятность развития геморрагических осложнений довольно высока.
α-Адреноблокаторы наиболее часто применяемы пациентами с обструктивными симптомами после ТУРП препаратами [10]. Основанием их назначения служит наличие α1а-адренорецепторов в резидуальных аденоматозных тканях простатического отдела уретры и шейки мочевого пузыря. Кроме того, α1а-адреноблокаторы положительным образом влияют и на гиперактивность мочевого пузыря, уменьшая частоту мочеиспусканий днем и ночью, увеличивая средний объем микции. Большинство пациентов рутинно применяют α-адреноблокаторы для ликвидации послеоперационных расстройств мочеиспускания [36].
В случае преобладания ирритативных симптомов и недостаточного эффекта от α-адреноблокаторов используют следующие терапевтические мероприятия: лечебную физкультуру, направленную на укрепление мышц таза; м3-холиноблокаторы или β3-адреномиметики [37–40]. Эффективность лечебной физкультуры была изучена в двух рандомизированных исследованиях [38, 39]. В одном авторы сравнивали показатели шкалы IPSS через 4 мес., в другом – через 12. Первая группа пациентов дополнительно выполняла стандартный комплекс упражнений лечебной физкультуры, вторая служила контролем. Максимальная эффективность лечебной физкультуры была показана в течение первых 3 недель после операции, спустя 12 нед. показатели IPSS в обеих группах были одинаковыми [39].
Медикаментозные подходы к терапии ирритативных симптомов после трансуретральных операций на предстательной железе включают назначение α-адреноблокаторов, м-холиноблокаторов, β3-адреномиметиков и их комбинаций [40]. М-холиноблокаторы ослабляют непроизвольные сокращения мочевого пузыря при его наполнении, что приводит к урежению частоты мочеиспусканий, увеличению емкости мочевого пузыря, уменьшению ургентности. Ввиду того что м-холинорецепторы имеются не только в стенке мочевого пузыря, преимущество имеют уроселективные м-холиноблокаторы, влияющие на м3-холинорецепторы. Основным недостатком применения препаратов этой группы являются типовые нежелательные эффекты, связанные с блокированием м-холинорецепторов других органов (сухость во рту, запор, тахикардия, бессонница). Применение уроселективных м-холиноблокаторов практически не вызывает вышеуказанных явлений, в то время как приверженность терапии м-холиноблокаторами в течение 12 мес. не превышает 40% [36]. Для преодоления отмеченных недостатков был разработан β3-адреномиметик мирабегрон, который снижает тонус детрузора, однако не влияет на акт мочеиспускания и не вызывает нежелательных явлений, характерных для м-холиноблокаторов [37]. Препарат не влияет на максимальную скорость мочеиспускания и внутрипузырное давление в момент достижения максимальной объемной скорости мочеиспускания.
В некоторых исследованиях с мирабегроном было отмечено дозозависимое нарастание объема остаточной мочи, поэтому совместное использование мирабегрона с тамсулозином несет дополнительные преимущества [37].
Около 20–50% пациентов после оперативного лечения продолжают испытывать СНМП. Частота развития последних в значительной степени зависит от исходной выраженности симптомов заболевания, вида оперативного лечения, течения послеоперационного периода. В настоящее время не изучена зависимость развития послеоперационных СНМП от объема удаленных тканей и недостаточно полно разработаны медикаментозные подходы к терапии СНМП после операции. Все вышеизложенное диктует необходимость проведения дополнительных исследований.