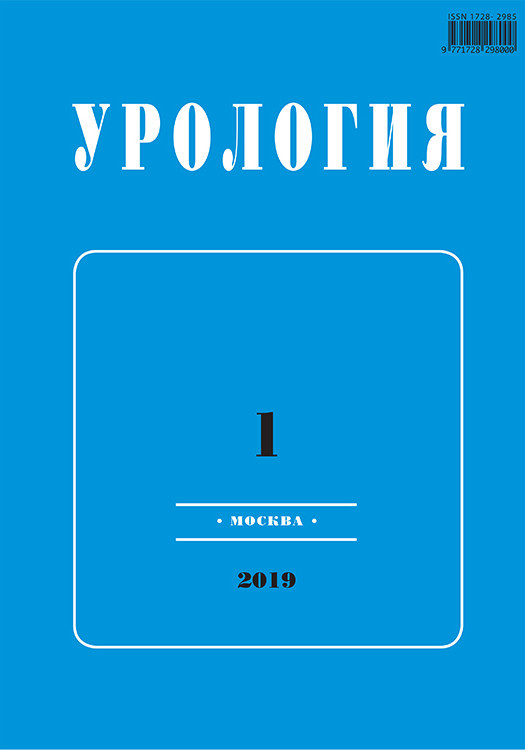Оксалаты – конечные продукты нормального метаболизма, плохо растворимые в воде. Щавелевая (оксаловая) кислота – сильная дикарболовая органическая кислота с рКа1=1,27 и рКа2=3,8. При физиологических значениях рН эти формы образуют растворимые соли с натрием и калием, но нерастворимые с кальцием [1, 2]. Гипероксалурия, как правило, сочетается с гиперкальциурией и гипоцитратурией, является наиболее важным метаболическим фактором риска развития кальций-оксалатного уролитиаза [3]. Различают три механизма развития гипероксалурии: 1) наследственные заболевания, связанные с гиперпродукцией оксалата; 2) повышение экскреции оксалата с мочой у больных синдромом мальабсорбции, воспалительными заболеваниями кишечника (кишечная гипероксалурия) и 3) повышенное потребление продуктов питания, богатых оксалатом, аскорбиновой кислотой и при низком потреблении кальция (пищевая гипероксалурия).
Первичная оксалурия – редкое наследственное заболевание. Причина первичной оксалурии I типа – аутосомно-рецессивное нарушение метаболизма глиоксалата, обусловленное недостаточностью в печени фермента аланинглиоксилатаминотрансферазы, при которой увеличивается экскреция гликолевой и щавелевой кислот с мочой. В биохимическом анализе крови повышен уровень гликолота. На клиническом уровне – заболевание почек, на молекулярном – печени. Проявления заболевания: оксалатные камни почек, нефрокальциноз, отложение оксалатов в других органах и тканях, прогрессирующая ХПН, приводящая к смерти. Первичная оксалурия II типа обусловлена недостаточностью фермента глицератдегидрогеназы и проявляется повышением экскреции L-глицериновой кислоты в сыворотке крови. Кроме того, глицератдегидрогеназа обладает глиоксилатредуктазной активностью, поэтому недостаток фермента приводит к накоплению глиоксиловой кислоты (токсична) и ее окислению до щавелевой кислоты. Лечение не разработано. Первичная оксалурия III типа обусловлена недостаточностью фермента альдолазы.
В норме всего 10–15% оксалатов мочи составляет оксалат, поступающий в организм с пищей, пассивно адсорбируясь в кишечнике. Остальная их часть эндогенного происхождения – 35–40% из аскорбиновой, 40% из глиоксиловой кислот. Тем не менее пищевой рацион влияет на уровень оксалатов в моче. Диеты с высоким содержанием оксалата, большие дозы витамина С увеличивают уровень мочевого оксалата. Примерно 80–1200 мг оксалата ежедневно поступают в организм с пищей при обычном питании и 80–2000 мг – при вегетарианской диете. Около 10% этого оксалата абсорбируется. Оксалаты могут всасываться во всех отделах кишечника, затем выводятся не метаболизируясь путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции, почти исключительно проксимальными канальцами, через 24–36 ч после поступления пищи. Экскреция оксалатов максимальна днем, в период употребления продуктов питания. Всасывание оксалатов в кишечнике зависит от содержания кальция. Баланс оксалата достигается благодаря почечной экскреции, которая составляет 15–40 мг/день. Даже незначительные колебания уровня пищевого оксалата могут приводить к пресыщению мочи оксалатом кальция. Молярность оксалатов мочи меньше, чем молярность кальция (кальциево-оксалатный коэффициент, CaOx, составляет 5:1). Это означает, что даже незначительные изменения в концентрации оксалатов гораздо больше влияют на CaOx-кристаллизацию, чем значительные изменения концентрации кальция [4]. При соединении аниона щавелевой кислоты с катионом кальция образуется оксалат кальция, являющийся плохо растворимой солью и присутствующий в двух видах: в виде моногидрата (вевеллит) или дигидрата (ведделлит) – основных компонентов мочевых камней. Пересыщение этими солями служит основным условием камнеобразования, так как их растворимость не зависит от рН мочи [5–7]. Эпидемиологические исследования подтвердили неблагоприятный эффект низкого содержания кальция в рационе [8].
Кишечная гипероксалурия часто наблюдается у пациентов с синдромом мальабсорбции, при котором имеет место нарушение процессов всасывания пищевых веществ из тонкой кишки. Данный синдром развивается при различных заболеваниях ЖКТ: воспалительные процессы, энзимная недостаточность, расстройства моторики и кровоснабжения, дисбактериоз, обходные анастомозы. В нормальном кишечнике большая часть оксалата связывается с кальцием и выводится в виде нерастворимых соединений. Увеличение в просвете кишечника количества неабсорбирующихся жирных кислот (стеаторея) приводит к связыванию кальция в комплексы с жирными кислотами.
И диетического кальция не хватает для связывания оксалатов в просвете кишечника, абсорбция последнего возрастает, что приводит к развитию гипероксалурии [8, 9]. Тот же механизм объясняет повышенную экскрецию оксалатов и повышение риска мочекаменной болезни (МКБ) после бариатрической хирургии, целью которой служит уменьшение усвоения жирных кислот [10, 11]. Недостаточное поступление и всасывание кальция вызывают гипокальциемию, приводя к вторичному гиперпаратиреозу и гиперкальциурии: создаются условия для камнеобразования. Таким образом, к кишечной гипероксалурии могут приводить недостаточность образования кальций-оксалатных комплексов в кишечнике в результате низкого употребления кальция с пищей или образования комплексов кальций+жирные кислоты у пациентов с гастроинтестинальными нарушениями; повышение абсорбции щавелевой кислоты по неизвестным причинам; употребление очень высоких доз аскорбиновой кислоты; снижение популяции бактерий Oxalobacte formigenes. Витамин С метаболизируется в дегидроаскорбиновую кислоту, а затем преобразуется в оксалат, который выводится из организма с мочой. Показано, что потребление в день более 1000 мг витамина C связано с 40%-ным повышением риска камнеобразования [12]. Большую часть оксалатов, поступающих в толстую кишку, разрушают бактерии O. formigenes – относительно недавно идентифицированный непатогенный анаэробный микроорганизм класса бактерий, колонизирующий желудочно-кишечный тракт у позвоночных, в том числе и у человека. Впервые он идентифицирован и описан M. Allison в 1985 г. [13]. Эти бактерии проявляют симбиоз с организмом хозяина, регулируя количество свободной щавелевой кислоты в кишечнике, что определяет уровень оксалата в плазме крови и моче. У здоровых людей в норме определяется до 5x108 КОЕ/мл O. formigenes [14, 15]. Это количество бактерий способно утилизировать 0,5–1,0 г оксалата в сутки. O. formigenes утилизирует оксалат в желудочно-кишечном тракте его хозяев, используя его в качестве единственного источника энергии и углерода [16], в отличие от других известных бактерий, деградирующих оксалат, подавляющее большинство которых только метаболизирует оксалат, используя пути детоксикации [17, 18]. Вторая физиологическая роль O. formigenes в гомеостазе хозяина заключается в стимулировании транспорта оксалата через эпителий кишечника, способствуя его высвобождению в просвет желудочно-кишечного тракта [19]. Отсутствие этих бактерий или уменьшение их популяции обусловливают повышение доступности оксалата для абсорбции и повышение его концентрации в сыворотке крови и моче. Заселение O. formigenes происходит в детстве с последующим снижением количества колоний в зрелом возрасте, при этом у 20–40% взрослых людей колонии не обнаруживаются [20]. Доказано, что прием кальция и оксалата влияет на колонизацию O. formigenes и выраженность гиперкальциурии [21]. Прием же отдельных антибиотиков оказывает существенное влияние на сохранность данного микроорганизма в кишке. Попытки повторной колонизации имеют переменный успех [22, 23]. В настоящее время предпринимаются попытки разработать пробиотики, которые эффективно бы уменьшали экскрецию оксалата с мочой. Пробиотики, содержащие O. formigenes, Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Enterococcus spp. эффективно уменьшают экскрецию оксалата с мочой [24]. Однако функция деградации оксалата часто теряется или прекращается, несмотря на их долгосрочное применение. Проводятся экспериментальные исследования по пересадке фекального трансплантата бактериальной флоры, разрушающей оксалат. Результаты исследований показывают, что животные, получавшие фекальные трансплантаты, имеют более разнообразную и сплоченную сеть бактерий, связанных с O. formigenes, определяя более высокую эффективность и длительность в утилизации пищевого оксалата, т.е. фекальные трансплантаты более эффективны, чем микробные [25].
В редких случаях оксалурии кальциевые камни образуются при отравлении этиленгликолем, метоксифлураном, щавелевой кислотой, при авитаминозе В6, фенилкетонурии, первичной оксалурии.
При нарушении обмена пуринов формируются камни, состоящие из мочевой кислоты, дигидрата мочевой кислоты, солей мочевой кислоты – уратов, ксантина, цистина и 2,8-дигидроксиаденина. Мочевая кислота – продукт обмена пуриновых оснований у человека и приматов. У большинства млекопитающих имеется фермент уриказа, который превращает мочевую кислоту в аллантоин, в 100 раз более растворимый. Одной из особенностей мочевой кислоты является то, что она выводится из организма в твердой фазе, что избавляет организм от бремени одновременной экскреции воды. Повышение уровня мочевой кислоты, гиперурикемия, – нередкая находка в клинической практике. Влияние на уровень мочевой кислоты оказывают многие факторы: демографические, климатические, социальные и др. Многочисленные исследования констатируют, что гиперурикемия чаще наблюдается у представителей черной расы и у мужчин. У мужчин содержание мочевой кислоты находится на довольно постоянном уровне в течение всей жизни. У детей этот показатель всегда ниже, чем у взрослых, во время пубертантного периода он повышается, достигая взрослых значений. Низкий уровень урикемии у женщин репродуктивного возраста обусловлен влиянием эстрогенов на канальцевую экскрецию уратов.
С началом менопаузы уровень урикемии приближается или становится равным таковому у мужчин соответствующего возраста. Нарушения пуринового обмена в большинстве своем генетически детерминированы и включают гиперурикемию, гипоурикемию и болезни иммунодефицита. Характер наследственности известен: гиперурикемия или предрасположенность к ней передается от отцов через здоровых матерей и бабушек или же через дедов (прадедов) по материнской линии. При метаболическом типе нарушения пуринового обмена имеет место генетически обусловленный дефект ферментативной активности, приводящий к дисбалансу мочевой кислоты в организме [26]. Дефект передается по наследству как доминантный признак. Дисбаланс ферментативной активности обусловлен недостаточностью глюкозо-6-фосфатазы, гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы и повышением активности фосфорибозилпирофосфатсинтетазы. Подтверждением ведущей роли генетической предрасположенности к возникновению нарушений обмена мочевой кислоты и подагры, например, является тот факт, что у 40% жителей островных государств Юго-Восточной Азии выявляется гиперурикемия и как следствие – 10% населения страдают подагрой, хотя уровень жизни в этих странах не очень высокий. В то же время в США при имеющемся высоком уровне жизни подагрой страдают лишь 2–3% населения. В России же за последние 20 лет заболеваемость подагрой выросла в 10 раз и сегодня ей страдают около 1% жителей страны. Необходимо подчеркнуть, что кроме генетических факторов в нарушении обмена пуринов существенную роль играет алиментарный фактор, т.е. повышенное потребление белоксодержащих продуктов как животного, так и растительного происхождения. Экзогенные пурины составляют всего треть от общего количества, тем не менее их дополнительные источники могут нарушать весьма жесткий баланс в организме. Употребление алкоголя, ожирение и нарушение почечной функции также ассоциируются с более высоким уровнем мочевой кислоты. Кроме этого рост заболеваемости связывают с широким распространением сети ресторанов быстрого питания. Здесь, видимо, отрицательную роль играют два фактора: низкое качество жиров и большое количество пуринов в пище. В последнее время нарушениями обмена пуринов (подагрой) стали чаще болеть и женщины. Причем важно подчеркнуть, что мужчин подагра настигает в относительно молодом возрасте (40–50 лет), а женщин, как правило, после менопаузы. Кроме того, женщины в целях коррекции фигуры все чаще и чаще прибегают к помощи мочегонных средств. Такое увлечение диуретиками вносит определенный вклад в повышение частоты нарушений пуринового обмена среди представительниц слабого пола.
Функционально мочевая кислота служит мощным стимулятором нервной системы. Среди списка 400 общепризнанных гениев мировой истории и культуры 12,5% бесспорно страдали этим заболеванием [26]. Ингибируя фосфодиэстеразу, мочевая кислота пролонгирует действие адреналина и норадреналина на ЦНС. Гении подагрического типа имеют свой психологический портрет: они решительны, активны и самобытны, их выдающиеся качества особенно проявляются в переломные, критические времена. Впрочем, гиперурикемия может приводить не только к гениальности. Чрезмерное содержание мочевой кислоты сопровождается серьезными расстройствами психики – синдромом Леш-Нихана (нервозность, агрессивность, замедление умственного развития, элементы мазохизма). При этом, становясь причиной одной страшной болезни, подагры, мочевая кислота, возможно, защищает от другой, еще более страшной. Гений и подагра более чем «совместны», а вот подагра и рассеянный склероз – никак нет. Доказательством тому служат результаты анализа 20 млн историй болезней. Возникновение рассеянного склероза некоторым образом связано с действием пероксинитрита, генерируемого радикалом свободного кислорода. По всей видимости, мочевая кислота, которая имеется с избытком при гиперурикемии, является мощным антиоксидантом, нивелирует действие свободных радикалов и сдерживает развитие болезни.
По данным исследований, проведенных под руководством Ю. А. Пытеля, гиперурикемия приводит к нарушению практически всех видов обмена. А нарушения пуринового обмена, по его мнению, могут проявляться в трех формах: подагры, уратного нефролитиаза и сахарного диабета [27]. Существует три основных пути образования мочевой кислоты в организме человека: из пуринов, освобождающихся при тканевом распаде, из пуринов, содержащихся в пище, и из синтетически образуемых пуринов. В основном мочевая кислота образуется в печени в результате распада нуклеотидов, дезаминирования аминопуринов (аденин, гуанин) и окисления оксипуринов (гипоксантин, ксантин). Выделяют два пути синтеза мочевой кислоты в организме. В случае прямого пути длительностью 2–3 дня мочевая кислота образуется в результате дезаминирования (пуринодезаминазы) аденина, гуанина, окисления гипоксантина (ксантиноксидаза). При другом пути, непрямом, длительностью 8–10 дней источником образования мочевой кислоты являются нуклеиновые кислоты, нуклеопротеиды, нуклеотиды, нуклеозиды. Выделение мочевой кислоты почками представлено четырьмя процессами: гломерулярной фильтрацией, проксимальной реабсорбцией, секрецией в проксимальных канальцах и постсекреторной реабсорбцией. Вся мочевая кислота, поступившая в почку, полностью фильтруется в клубочках. Затем она почти вся реабсорбируется в проксимальных канальцах [28, 29]. После этого мочевая кислота секретируется в канальцах и повторно подвергается реабсорбции в их дистальных отделах. В норме только часть профильтровавшейся в клубочках мочевой кислоты (от 1 до 25%) экскретируется с мочой [30]. Незначительное количество МК выделяется с потом, мокротой, кишечным соком и желчью [31].
Концентрация мочевой кислоты в первичной моче определяется ее содержанием в плазме крови и скоростью клубочковый фильтрации (СКФ). Концентрация мочевой кислоты в конечной моче зависит от рН мочи, объема мочи и выведения мочевой кислоты. Мочевой рН является наиболее важным фактором растворимости мочевой кислоты. Диссоциация мочевой кислоты контролируется двумя константами диссоциации (рКа) за счет потери одного протона. Первая рКа с рН 5,5 регулирует превращение мочевой кислоты в более растворимый анионный урат. Вторая рКа с рН 10,3 клинического значения не имеет, так как средний уровень рН мочи человека составляет от 4,8 до 7,4. Таким образом, при рН менее 5,5 почти 100% мочевой кислоты находятся в недиссоциированной форме и, наоборот, при рН более 6,5 большая часть мочевой кислоты будет находиться в виде анионного урата. Для мочевой кислоты характерна низкая растворимость в воде. Натриевая соль отличается в 17 раз более высокой растворимостью. Кроме того, растворимость депротонированного урата также зависит от его катиона. Урат калия более растворим, чем урат натрия, что может способствовать увеличению риска уратиндуцированных кальциевых камней при лечении бикарбонатом натрия [32]. В моче мочевая кислота присутствует в лактимной и лактамной формах (растворимой и нерастворимой). Форма, в которой мочевая кислота находится в биологических жидкостях (кровь, моча, спиномозговая жидкость), зависит от рН среды. В физиологических условиях можно обнаружить как непосредственно мочевую кислоту, так и ее мононатриевую соль – урат натрия.
В жидкостях с рН ниже 5,75 основной молекулярной формой является мочевая кислота, что характерно для дистальных канальцев и собирательных трубочек. При рН 5,75 кислота и ее соль присутствуют в эквимолярных количествах. Моча при рН 5 становится насыщенной уратами при концентрации 15 мг на 100 мл. При рН выше 5,75 доминирующая форма – натриевая соль мочевой кислоты. Если рН мочи достигает 7, то в ней могут раствориться 150–200 мг уратов на 100 мл. Интенсивность кристаллизации мочевой кислоты и образования камней из нее можно в значительной мере уменьшить, смещая рН мочи в щелочную сторону (при этом будет доминировать более растворимая форма урат натрия). Основным движущим фактором для формирования камней из мочевой кислотой является постоянно низкий уровень рН мочи, обусловленный высокой продукцией и экскрецией кислоты (эндогенно продуцируемой или поступающей извне) или неадекватностью мочевых буферов, или комплексом этих нарушений. Лица с ожирением, метаболическим синдромом, страдающие сахарным диабетом 2-го типа, нарушением толерантности к глюкозе, характеризуются гораздо более высокой заболеваемостью мочекислым литиазом по сравнению с общей популяцией камнеобразователей [33–35]. Ожирение и рН мочи имеют обратно пропорциональное соотношение. Чем выше масса тела, тем выше взаимосвязь с более низкими показателями рН мочи, так как каждая клетка вырабатывает определенное количество кислоты [36]. Это связано с увеличением чистой секреции кислоты без компенсаторного увеличения почечного аммониогенеза, причина которого еще не выяснена [37].
Мочекислые камни чаще наблюдаются у мужчин, составляют около 5–15% (в эндемичных областях до 25–70%) всех мочевых камней. Риск образования мочекислых камней особенно высок при подагре, миелопролиферативных заболеваниях и у онкологических больных, получающих химиотерапию. У больных мочекислым нефролитиазом отмечается высокий уровень мочевой кислоты, уменьшение содержания лимонной кислоты, значительное снижение концентрации глутамина, а также выделяемых натрия и калия. Содержание аммиака по отношению к натрию и калию значительно увеличено, что связано с постоянным ацидозом мочи. Таким образом, основными процессами, влияющими на рН окончательной мочи, являются ацидогенез и аммониогенез. Гиперпродукция мочевой кислоты проявляется в гиперурикемии и гиперурикурии. Основное количество мочевой кислоты выводится почками, что создает предпосылки для кристаллизации мочевой кислоты, главным образом в области терминального отдела нефрона и на вершине почечного сосочка, по типу пробок Рендалла. У массы больных с мочекислыми камнями гиперурикемия или гиперурикурия отсутствует. Мочекислый литиаз при подагре наблюдается значительно чаще, чем при ее отсутствии. В то же время у 40% больных проявления МКБ предшествуют суставному эпизоду подагры. Образование мочекислых камней у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, илеостомией или состоянием после резекции кишечника, особенно с использованием терминального отдела подвздошной кишки, связано с потерей бикарбоната и обезвоживанием, которое приводит к закислению мочи и высокой предрасположенности к нефролитиазу. Частота МКБ у пациентов с язвенным колитом, илеостомией и болезнью Крона составляет 0,5–3,2, 50–70 и 80% соответственно [38, 39].
В плазме крови и в моче мочевая кислота растворена в виде натриевой или калиевой соли, они обладают лучшей растворимостью по сравнению с мочевой кислотой, поэтому мочекислые камни чаще состоят из мочевой кислоты и реже из ее солей – уратов. Гиперуратурия также является одним из симптомов мочекислого диатеза, она встречается гораздо реже, чем гиперурикемия и гиперурикурия. Под уратурией понимают патологическое состояние, которое проявляется клинически повышенным выделением солей мочевой кислоты (уратов) с мочой. Экспериментальными данными подтверждено, что 10% уратов в сыворотке крови связано с протеинами. Мочевая экскреция уратов происходит в результате канальциевой секреции в проксимальных канальцах, а 99% профильтровашихся в почках уратов реабсорбируются. Они представлены в основном солями натрия и калия, реже – калия и магния. Существует еще одна соль мочевой кислоты – кислый урат аммония, который, в отличие от других солей, выпадает в осадок в щелочной моче.
С увеличением рН мочи ураты будут доминировать и мочекислые соли могут выпадать в осадок. Пациенты с высоким уровнем мочевой кислоты, низким уровнем пирофосфата, высоким значением рН и высокой мочевой концентрацией аммония подвергаются риску формирования камней из урата аммония. Ураты натрия и аммония являются малорастворимыми солями, а образованные из них камни рентгенологически слабопозитивны. Камни из урата аммония встречаются довольно редко – их доля составляет 0,5% от всех мочевых камней. Причиной формирования таких камней служит несбалансированная диета с преимущественным употреблением риса и недостаточным употреблением фосфатов с молочными и мясными продуктами. При этом увеличивается преобразование глютамина в урат аммония. Причинами данного вида уролитиаза в развитых странах могут быть нервная анорексия, несбалансированная вегетарианская диета, неправильное использование слабительных средств. Эффективным лечебным мероприятием в этих случаях является изменение стиля питания. В отличие от камней из мочевой кислоты, образование и рост камней урата аммония происходят только при рН мочи более 6,5 при наличии мочевой инфекции. Очень часто эти камни бывают смешанными со струвитными. Химическое растворение камней из урата аммония невозможно.
Гипоурикемия обусловлена либо усилением экскреции, либо снижением скорости образования уратов. У человека она связана чаще всего с нарушением реабсорбции мочевой кислоты из клубочкового фильтрата, что может приводить к выделению уратов и мочевой кислоты в количествах, неадекватно больших по отношению к содержанию уратов в плазме. Недостаточность ксантиноксидазы, вызванная либо генетическим дефектом, либо тяжелым поражением печени, приводит к гипоурикемии и увеличению экскреции оксипуринов – гипоксантина и ксантина. При тяжелой недостаточности ксантиноксидазы у пациентов часто развивается ксантинурия и формируются ксантиновые камни. Ксантиновые камни встречаются очень редко. Они образуются вследствие врожденного дефекта фермента ксантиноксидазы, наследуемого аутосомно-рецессивно.
В результате этого ксантин не может превращаться в мочевую кислоту, что влечет за собой увеличение экскреции гипоксантина и ксантина почками. Ксантин является плохорастворимой субстанцией, поэтому и образуются ксантиновые камни. Лекарственных препаратов, которые могли бы растворить ксантиновые камни, не разработано. Высокий диурез и низкая плотность мочи в течение суток – наиболее важные меры, препятствующие камнеобразованию. Химическое растворение ксантиновых камней невозможно. Медикаментозное лечение первичной ксантинурии не разработано. Лечение аллопуринолом не эффективно.
При редком нарушении обмена аденина (аденин [6-аминопурин] – азотистое основание, аминопроизводное пурина), недостаточности аденинфосфорибозилтрансферазы в моче появляется малорастворимый 2,8-дигидроксиаденин (2,8-ДГА), из которого тоже образуются камни.
В норме 2,8-ДГА не встречается как метаболический продукт. Аденин, образующийся в ходе метаболизма пуринов, в норме трансформируется в аденозинмонофосфат с участием аденинфосфорибозилтрансферазы. При этой патологии аденин не может преобразовываться в аденозинмонофосфат вследствие дефекта указанного фермента, который наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Альтернативным путем преобразования аденина при этой патологии является превращение его в 2,8-ДГА с помощью фермента ксантиноксидазы. Помимо 2,8-ДГА в результате этого накапливаются еще гидроксиаденин и гипоксантин, но только 2,8-ДГА считается плохо растворимой субстанцией. Повышение концентрации 2,8-ДГА является фактором образования камней даже у маленьких детей. Ксантиноксидаза может быть ингибирована аллопуринолом, и, следовательно, концентрация 2,8-ДГА эффективно снижается. Таким образом, при регулярном употреблении лекарств риск образования новых камней сводится к минимуму.
Этиологическим фактором образования цистиновых камней является наследственное (аутосомно-рецессивное) нарушение канальцевой реабсорбции четырех основных аминокислот – цистина, орнитина, лизина и аргинина (ЦОЛА) – синдром Абдергальдена–Линьяка. Орнитин, лизин и аргинин хорошо растворимы, цистин – плохо. Наличие цистинурии более 200 мг в сутки служит основной причиной образования цистиновых камней. Цистинурия – это состояние, характеризующееся наличием дефекта трансэпителиального транспорта цистина в кишечнике и почках. Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу и более характерно для мужчин (70% больных). У здоровых лиц за сутки с мочой выделяется примерно 40–80 мг цистина. Снижение уровня магния в моче также является фактором риска развития цистинового уролитиаза. Единственное клиническое проявления цистинурии – МКБ. Растворимость цистина зависит от рН мочи и возрастает экспоненциально с увеличением рН. Ингибиторы кристаллизации цистина неизвестны. Цистиновые камни часто сочетаются с кальциевыми, бывают одиночными, множественными, коралловидными. Цистиновые камни имеют характерные рентгенологические признаки – слаборентгенопозитивны, имеют ровные края, похожи на матовое стекло.
Цитрат, важнейший компонент цикла Кребса, является мощнейшим ингибитором кристаллизации, основным фактором, регулирующим образование кальциевых камней. Цитрат связывает кальций, снижает концентрацию его свободных ионов и ионную силу раствора, препятствует образованию кристаллов кальция за счет снижения уровня мононатриевой соли мочевой кислоты, которая нейтрализует ингибиторы кристаллизации. В плазме лимонная кислота содержится преимущественно в виде трехвалентного аниона Citrate3-. Внеклеточная (плазменная) концентрация цитрата очень мала и преимущественно определяется кальциевыми, натриевыми и магниевыми солями. Лимонная кислота на 95–98% всасывается в кишечнике, свободно фильтруется в почках, 65–90% ее реабсорбируется в проксимальных канальцах, т.е. примерно 10–35% профильтровавшегося цитрата экскретируется с мочой.
У человека цитрат является главным органическим анионом мочи. Реабсорбированный цитрат полностью метаболизируется до СО2 и Н2О, что обеспечивает до 10% оксидации мочи. По этой причине количество мочевого цитрата преимущественно определяется реабсорбцией и в меньшей мере – фильтрацией, так как концентрация цитрата в плазме низкая. Синтезируется цитрат в митохондриях. Ацидоз и гипокалиемия приводят к снижению уровня клеточного цитрата за счет повышения градиента для реабсорбции в почках. Низкий уровень рН будет сдвигать равновесие в сторону вида трехвалентных ионов цитрата, приводя к гипоцитратурии. Таким образом, ацидоз является наиболее важным фактором, определяющим уровень мочевой экскреции цитрата [40]. Кишечная абсорбция – важнейший путь поступления цитрата, а печень и почки – главные органы, где происходят его метаболизм и экскреция. Интерес урологов к цитрату объясняется его ингибирующей ролью при кальциевом уролитиазе и литолитическом эффекте при мочекислом типе камнеобразования. Нормальные цитратные соли щелочных металлов вследствие гидролиза по аниону дают слабовыраженную основную реакцию. Связываясь с кальцием, цитрат-ион снижает риск преципитации кальция оксалата и фосфата, ингибирует спонтанное осаждение и агломерацию кристаллов CaOx и CaP, препятствует гетерогенной нуклеации CaOx и мочевой кислоты. Механизм ингибирования заключается в подавлении процессов кристаллизации и образовании комплексных соединений, за счет которых происходит снижение сатурации мочи солями кальция. Также цитрат способен сохранить макромолекулы, многие из которых предотвращают агглютинацию кристаллов и повреждение канальцевого эпителия. Гипоцитратурия как возможный причинный фактор нефролитиаза присутствует в 19–63% случаев МКБ. Принятый внутрь цитрат метаболизируется до бикарбоната, поэтому используется как средство, подщелачивающее мочу и увеличивающее уровень цитрата в моче. Все метаболические нарушения с усиленным потреблением цитрата снижают его экскрецию с мочой. К таким состояниям относятся ацидоз, диарея или мальабсорбция, физическая нагрузка, кислотный пищевой избыток, снижение уровня калия, голодание, почечный дистальноканальцевый ацидоз, длительный прием тиазидных диуретиков, лечение андрогенами. При инфекциях мочевых путей цитрат в моче утилизируется бактериями. Эстрогены, алкалоз, диета, способствующая ощелачиванию мочи, лечение соматотропином, паратиреотропным гормоном и препаратами витамина D усиливают экскрецию цитрата. При гипоцитратурии (экскреция цитрата с мочой менее 320 мг/сут) кальциевые камни образуются, как правило, на фоне почечного дистальноканальцевого ацидоза, длительного лечения тиазидными диуретиками или хронической диареи, редко в отсутствие какой-либо патологии.
Натрий редко входит в состав камней, но играет важную роль в патогенезе МКБ, регулируя кристаллизацию солей кальция в моче. Более 99,5% профильтровавшегося в клубочках натрия подвергаются реабсорбции по всей длине дистального нефрона. Натрий в больших количествах содержится в центре мочевых камней и, возможно, способствует выпадению и агрегации кристаллов. Высокое содержание натрия в рационе повышает экскрецию кальция и снижает экскрецию цитрата с мочой. Все это способствует образованию кристаллов оксалата кальция. Ограничение поступления натрия с пищей обычно препятствует повторному образованию мочевых камней, поскольку оно связано с уменьшением выделения кальция с мочой.
Магний. При стандартном рационе с мочой выделяется 20–50% всего количества выводимого магния. Дефицит магния в рационе служит фактором риска МКБ. Магний является активатором многих ферментов, оказывает влияние на выделение щавелевой кислоты и повышает растворимость фосфата кальция, образуя комплекс с оксалатом, уменьшает пересыщение CaOx в моче, регулирует стабильность мочи как пересыщенного раствора и препятствует кристаллизации. Концентрация магния колеблется в довольно узких пределах, и нарушения обмена случаются при недостатке его в пище, нарушениях всасывания и функции почек. Также магний может связываться с оксалатом в желудочно-кишечном тракте и уменьшать поглощение оксалата. Прием препаратов магния здоровыми людьми для профилактики МКБ бесполезен. У пациентов с хроническими заболеваниями почек добавка магния не рекомендуется, поскольку магний накапливается в крови при прогрессировании болезни. Увеличение в моче уровня магния может быть признаком мальабсорбции, недостаточного питания, заболевания тонкого кишечника или злоупотребления слабительными. При этом гипомагниемия не является фактором риска образования камней.
Сульфаты. Неорганические сульфаты плазмы в основном являются результатом расщепления эндогенных и поступивших с пищей аминокислот: цистина, цистеина, метионина и др. При нормальной концентрации в плазме и здоровых почках почти все количество профильтровавшихся сульфатов подвергается реабсорбции. Сульфаты препятствуют образованию мочевых камней, связывая кальций. Комплексообразующие сульфаты в основном входят в состав таких содержащихся в моче веществ, как хондроитинсульфат и гепарансульфат, которые считаются ингибиторами камнеобразования.
Витамин D обладает широким спектром биологических свойств и участвует в регуляции многих важных физиологических функций. Дефицит или недостаток витамина D имеет негативные последствия и лежит в основе ряда патологических состояний и заболеваний. Наиболее распространенными природными формами витамина D являются витамины D2 и D3. В организм человека витамин D2, эргокальциферол, образующийся из эргостерола под действием солнечного света преимущественно в растениях, поступает в относительно небольших количествах (не более 20–30% от потребности) из злаковых растений, рыбьего жира, сливочного масла, маргарина, молока, яичного желтка и т.д. Витамин D3, холекальциферол, образуется в организме животных и человека под действием солнечного света из 7-дегидрохолестерина. Именно он рассматривается как «истинный» витамин D. Холекальциферол мало зависит от поступления извне, образуется из находящегося в дермальном слое кожи предшественника, провитамина D3 (7-дегидрохолестерина), под влиянием коротковолнового ультрафиолетового облучения спектра В (длина волны 290–315 нм) при температуре тела в результате фотохимической реакции раскрытия В-кольца стероидного ядра и термоизомеризации. В результате двух последовательных реакций гидроксилирования биологически малоактивных форм витамин D превращается в активные гормональные формы: наиболее значимую 1α,25-дигидроксивитамин D3 (1α,25(ОН)2D3), или D-гормон, и минорную 24,25(ОН)D3. Первая реакция гидроксилирования осуществляется в печени (до 90%) и ведет к повышению уровня 25(ОН)D3 в сыворотке крови. Последующая реакция 1α-гидроксилирования 25(ОН)D3 протекает в основном в клетках проксимальных отделов канальцев почек (около 10%). В результате второй реакции гидроксилирования образуется активный метаболит витамин D 1α,25-дигидроксивитамина D3 и менее активный 24,25(ОН)2D3. Регуляция синтеза 1α,25-дигидроксивитамин D3 в почках является непосредственной функцией паратиреоидного гормона, на концентрацию которого в крови в свою очередь по механизму обратной связи оказывает влияние и уровень самого активного метаболита витамин D3, и концентрация кальция и фосфора в плазме крови. Кроме того, активирующее влияние на 1α-гидроксилазу и процесс 1α-гидроксилирования оказывают многие факторы – половые гормоны, кальцитонин, пролактин, гормон роста. Ингибиторами этого процесса являются 1α,25-дигидроксивитамин D3 и ряд его синтетических аналогов, глюкокортикоиды и др. За счет геномных и внегеномных механизмов D-эндокринная система осуществляет поддержание минерального гомеостаза (прежде всего в рамках кальций-фосфорного обмена), концентрации электролитов, участвует в метаболизме липидов, стимуляции дифференцировки клеток, ингибировании клеточной пролиферации и реализации иммунологических реакций. Важнейшими реакциями, в которых 1α,25-дигидроксивитамин D3 участвует как кальциемический гормон, является абсорбция кальция в желудочно-кишечном тракте и его реабсорбция в почках. Взаимодействие между 1α,25-дигидроксивитамин D3 и рецепторами витамина D повышает эффективность кишечной абсорбции Са++ в 2–4 раза, а фосфора до 80% и реабсорбции Са++ в почках.
Уровень витамина D более 50 нмоль/л достаточен и не требует лекарственной коррекции [41]. Гипервитаминоз D – доказанный фактор развития нефрокальциноза и камнеобразования в результате развития гиперкальциемии. Уровень витамина D (25(ОН)2D3) менее 30 нг/мл расценивается как недостаток, а ниже 20 нг/мл как D-дефицит. Различают два основных типа дефицита D-гормона. Первый тип обусловлен недостатком природной прогормональной формы, из которой образуются активные метаболиты. Последствием этого типа дефицита является снижение абсорбции и уровня Са++, повышение уровня паратиреоидного гормона в сыворотке крови, нарушение ремоделирования и минерализации костной ткани. Дефицит 25(ОН)2D3 рассматривают в тесной связи с нарушением функции почек, возрастом, в том числе после менопаузы, он выявляется при синдроме мальабсорбции, болезни Крона, состояниях после субтотальной гастрэктомии, обводных операций на кишечнике, при недостаточной секреции панкреатического сока, циррозе печени, нефрозах. Другой тип дефицита витамина D не всегда определяется снижением продукции D-гормона в почках, но характеризуется снижением его рецепции в тканях, что рассматривается как функция возраста. Таким образом, дефицит витамина D служит одним из существенных факторов ряда обменных нарушений, и его восполнение является важным элементом их профилактики.
До сих пор во многих руководствах по МКБ сохраняются рекомендации об ограничении приема витамина D, так как его основной циркулирующий метаболит, 25-гидроксивитамин D3 (25(OH)D3), и активная форма [1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25(OH)2D3)], играют важную роль в камнеобразовании. Результаты исследований связи между концентрацией витамина D в крови и нефролитиазом не согласуются и даже противоречивы [42, 43]. Одни исследования, изучавшие роль концентрации и метаболизма витамина D у пациентов с кальцийсодержащими камнями, не установили патофизиологического влияния витамина D на формирование кальциевых конкрементов [44]. Данные, полученные в исследованиях J. Tang и M. Chonchol, показали, что кратковременное применение препаратов витамина D больными МКБ и авитаминозом D не увеличивает экскрецию кальция в моче [45]. Работы А. Haghighi, Н. Samimagham, G. Gohardehi и других исследователей показали, что пероральный прием кальция и витамина D в течение 12 мес. не влияют на скорость выведения кальция в моче и образование камней в почках у женщин в постменопаузе [46, 47]. Исследование, проведенное в 2014 г. S. Nguyen et al., также не выявило статистически значимой связи между уровнем 25-гидроксивитаминамина D в пределах от 20 до 100 нг/мл и нефролитиазом (p=0,42). При этом отмечено, что имеется связь индекса массы тела с риском формирования почечных камней (отношение шансов – 3,5, 95% доверительный интервал [1,1, 11,3]) [48]. Еще одно исследование in vivo показало, что концентрация в крови 1,25(ОН)2D3 не имеет статистически значимого влияния на экскрецию кальция [49]. Другие исследования показали, что у пациентов с нефролитиазом имеется повышение уровня 1,25(OH)2D3 в крови, а высокий уровень 25(OH)D3 значительно связан с гиперкальциурией [50]. Неоднозначность результатов исследований роли витамина D в патогенезе МКБ заставляет большинство клиницистов настороженно относиться к назначению препаратов витамина D пациентам с МКБ.
Полноценное мультидисциплинарное метаболическое обследование в сопоставлении с результатом исследования мочевого камня создает предпосылки для всеобъемлющей оценки условий камнеобразования и их соответствующей рациональной патогенетической коррекции [51].