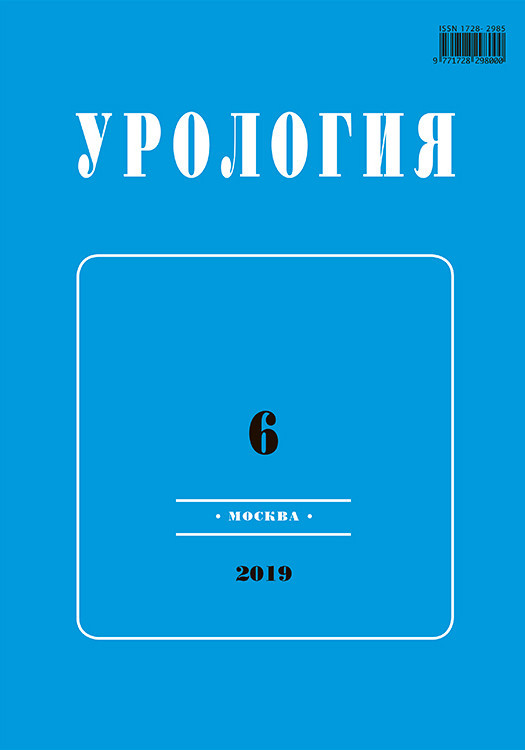Рак предстательной железы (РПЖ) – одна из важных проблем онкоурологии XX и XXI вв., становится одной из самых распространенных болезней среди мужского населения среднего и пожилого возраста большинства стран мира [1]. Рак предстательной железы занимает второе место среди причин смерти от раковых заболеваний мужчин во многих развитых странах мира и второе (7,1%) – в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями у мужчин в мире [2].
Традиционным методом лечения РПЖ является радикальная простатэктомия (РПЭ). В России в 2017 г. РПЭ была выполнена 49,7% пациентов с диагнозом РПЖ [3].
Вследствие широкого внедрения в практику скрининга и совершенствования методов диагностики все чаще диагноз РПЖ ставится на ранних стадиях, когда опухоль занимает всего 5–10% объема предстательной железы (ПЖ), чаще всего с унифокальным или унилатеральным поражением [4–6]. В связи с этим развитие получили малоинвазивные методы лечения локализованного РПЖ, в задачу которых входит, с одной стороны, удаление патологически измененных тканей, с другой – избавление от таких нежелательных эффектов, как эректильная дисфункция (ЭД) и недержание мочи, т.е. обеспечение сохранения высокого качества жизни.
Наибольшее распространение получили брахитерапия, криоабляция ПЖ и HIFU-терапия.
Уже более 30 лет брахитерапия существует как внутритканевая форма лучевой терапии, при которой лучевое воздействие осуществляется локально, а источник излучения имплантируется непосредственно в опухоль.
Существует два вида брахитерапии: с применением источника высокой и низкой мощности дозы.
При использовании низких доз источники излучения имплантируются в ПЖ и остаются там в течение всей жизни больного. Особое значение имеет распределение доз, так как неправильное размещение источников приводит к увеличению числа ранних и поздних токсических реакций (со стороны мочевыводящих путей и прямой кишки). Источники низкой мощности – изотопы йода (125I), палладия (103Pd) и цезия (131Cs) [7]. Лучше всего для низкодозной брахитерапии в режиме монотерапии подходят пациенты с РПЖ группы низкого риска и благоприятными характеристиками группы промежуточного риска.
Согласно текущим рекомендациям Европейской ассоциации урологов (ЕАУ), к критерия отбора для низкодозной брахитерапии относятся стадия cT1b–T2aN0M0; индекс Глисона 6 и ≤50% положительных столбиков; индекс Глисона 7 (3+4) и ≤33% положительных столбиков; уровень простатического специфического антигена (ПСА) до лечения ≤10 нг/мл и объем ПЖ <50 см3; сумма баллов по шкале IPSS ≤12; максимальная скорость мочеиспускания (Qmax) по данным урофлоуметрии >15 мл/с [8].
За последние 5 лет в Европейские клинические рекомендации не было внесено серьезных изменений касательно критериев отбора пациентов для брахитерапии. Низкодозную брахитерапию рекомендуется проводить пациентам с РПЖ низкого риска без предшествовавших трансуретральных резекций предстательной железы (ТУРПЖ), с хорошим индексом IPSS (≤12 баллов) и с объемом простаты <50 см3.
В исследовании S. Hocht et al. [9] описана статистически значимая корреляция между имплантируемой дозой и биохимическим рецидивом. Неоадъювантная или адъювантная гормональная терапия (ГТ) не способствовала повышению эффективности низкодозной брахитерапии.
В другом рандомизированном исследовании [10] оценивались долгосрочные побочные эффекты в зависимости от облучающей дозы. Показано, что частота развития нежелательных явлений снижается с уменьшением дозы облучения.
Что касается осложнений, то по результатам многофакторного анализа, проведенного в 2003 г. J. A. Talcott et al. [11], после брахитерапии симптомы со стороны кишечника и прямой кишки выражены в меньшей степени, чем после дистанционной лучевой терапии (ДЛТ). В свою очередь адъювантная ГТ может усилить негативное влияние низкодозной брахитерапии на сексуальную функцию и работу кишечника в отдаленном периоде [12, 13].
Источники высокой мощности (иридий 192Ir или кобальт 60Со) помещают в ПЖ при помощи временных аппликаторов. Дозу облучения подводят в течение нескольких минут. Острые осложнения проходят в течение нескольких недель. Брахитерапия с использованием источника низкой мощности имеет неоспоримое преимущество в плане удобства и простоты реализации. Процедура введения проводится однократно, чаще в амбулаторном режиме, не требовательна к средствам радиационной защиты.
Эффективность высокодозной брахитерапии в качестве монотерапии оценена у пациентов с клинически локализованным РПЖ. Показатели общей 60-месячной выживаемости, биохимического контроля и выживаемости без метастазирования составили 96,2; 95 и 99% соответственно. Токсичность терапии оценивалась с помощью шкалы токсичности по критериям NCI CTC (National Cancer Institute Common toxicity Criteria). Частота побочных эффектов 2-й и 3-й степеней со стороны мочеполовой системы составила 14,2 и 0,8% соответственно, гастроинтестинальная токсичность 2-й степени – 0,4% [14].
Результаты систематического обзора нерандомизированных исследований свидетельствовали о превосходстве комбинации ДЛТ и высокодозной брахитерапии над брахитерапией, но данный факт требовал подтверждения в проспективном рандомизированном исследовании [15]. И уже в 2012 г. были опубликованы результаты рандомизированного исследования [16], согласно которым комбинация ДЛТ с высокодозной брахитерапией по сравнению с монотерапией обеспечивает статистически значимое повышение выживаемости, свободной от биохимического рецидива (ВСБР).
У некоторых пациентов после имплантации развиваются серьезные осложнения со стороны мочевыводящей системы, такие как острая задержка мочи (1,5–22%), необходимость выполнения ТУРПЖ (до 8,7%) и развитие недержания мочи (0–19%) [17]. Хронические осложнения со стороны мочевой системы могут развиваться у 20% пациентов в зависимости от тяжести симптоматики до брахитерапии. Выполнение ТУРПЖ по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) повышает риск развития недержания мочи и частоту других осложнений со стороны мочевой системы. Для предотвращения высокой частоты развития осложнений необходимо тщательно подбирать пациентов на данный вид лечения с выполнением при необходимости уродинамического исследования и оценкой показателей шкалы IPSS.
H. Hauswald et al. оценили 10-летний результат лечения высокодозной брахитерапией 448 мужчин (средний возраст – 64 года) с РПЖ низкого и промежуточного рисков. Средний уровень ПСА составил 6 нг/мл. У 76% пациентов опухоль соответствовала градации 6 по Глисону, у 24% – градации 7. Средняя доза составила 43,5 Гр в 6 фракциях. Продолжительность периода наблюдения в среднем составила 6,5 лет. Актуальная 6- и 10-летняя выживаемость без признаков биохимического рецидива ПСА составила 98,6 и 97,8% соответственно. Общая выживаемость за 10 лет составила 76,7%. Местный контроль, отдаленная выживаемость без метастазирования и специфическая выживаемость составили 99,7, 98,9 и 99,1%. Т-стадия, начальный уровень ПСА, оценка по шкале Глисона, группа риска Национальной сети по борьбе с раковыми заболеваниями, возраст пациента и применение андрогенной депривации достоверно не коррелировали с контролем заболевания или выживаемостью. Поздняя токсичность 3–4-й степеней со стороны мочеполовой системы (по шкале токсичности по критериям NCI CTC) наблюдалась у 4,9%. Поздняя ректальная токсичность 3–4-й степеней не развивалась [18].
Хотя при развитии местного рецидива после радикальной лучевой терапии (ЛТ) не показана спасительная ЛТ, для тщательно отобранных пациентов с первичным локализованным РПЖ и гистологически подтвержденным рецидивом РПЖ высоко- и низкодозная брахитерапия остается эффективным методом лечения с приемлемым профилем токсичности.
В течение 9 лет в клинике Scripps 52 пациентам проведена высокодозная брахитерапия [19]. При медиане наблюдения 60 мес. показатели биохимического контроля составили 51% с частотой мочеполовых осложнений 3-й степени всего 2%. Показатели общей 5-летней выживаемости составили 92%. Отдаленные осложнения 2-й степени наблюдались у 15% пациентов, у одного больного развилось недержание мочи 3-й степени.
Опубликованы результаты длительного наблюдения после низкодозной брахитерапии с зернами 103Pd у 37 пациентов при медиане наблюдения 86 мес. Показатели 10-летней ВСБР составили 54%. Тем не менее исследователи констатировали высокую частоту осложнений 2-й степени и выше (46%) и осложнений 3-й степени и выше (11%) [20]. Эти показатели осложнения сравнимы с таковыми, полученными в работе с участием 31 пациента, которым проводилась спасительная низкодозная брахитерапия зернами 125I [21].
В целом показатели ВСБР после высоко- и низкодозной брахитерапии многообещающие, а частота тяжелых осложнений в специализированных центрах выглядит приемлемой. В связи с этим брахитерапия остается вариантом лечения для отдельных пациентов с гистологически подтвержденным местным рецидивом после ЛТ.
В настоящее время популярность набирает первичная криоабляция предстательной железы, которая, согласно рекомендациям Американской и Европейской ассоциаций урологов, служит возможным альтернативным методом лечения локализованного РПЖ, однако, согласно рекомендациям, криотерапия должна проводиться только в рамках клинических испытаний и не является общепринятым методом лечения. Криоабляция простаты получила развитие в связи с тем, что она характеризуется сопоставимыми онкологическими результатами и является менее инвазивной процедурой по сравнению с радикальной простатэктомией.
Метод криоабляции основан на замораживании, которое вызывает клеточную смерть за счет дегидратации, приводящей к денатурации белков, прямого разрыва клеточных мембран кристаллами льда и сосудистого стаза, образования микротромбов, что обусловливает нарушение микроциркуляции с развитием ишемии и апоптоза. Криохирургическая область характеризуется двумя зонами: центральной, где коагуляционный некроз очевиден, и периферической, где присутствуют различные степени клеточного повреждения. Механизмы клеточного повреждения включают как гибель клеток в результате непосредственного прямого физического контакта, так и клеточную смерть в отдаленном периоде из-за локальной гипоксии и апоптоза [22].
В ходе экспериментальных исследований установлено, что к основным параметрам, коррелирующим с вероятностью гибели опухолевых клеток, относятся быстрота замораживания ткани и достигнутая минимальная температура. Также на гибель опухолевых клеток влияют длительность замораживания, минимальная достигнутая температура, число циклов замораживания и оттаивания, скорость замораживания и скорость оттаивания [23]. Данные по увеличению зоны деструкции при повторных циклах замораживания и быстром замораживании подтверждают исследования, проведенные на трупной простате и желатиновой модели [24].
Впервые в России криоабляция простаты с использованием системы 3-го поколения «SeedNet» выполнена в 2010 г. в клинике урологии МГМСУ на базе ГКБ № 50 Москвы.
В течение года криотерапия проведена 25 больным РПЖ. Из 12 человек, обследованных через 6 мес. после криоабляции простаты, 11 пациентов полностью удерживали мочу, 1 больной отмечал эпизоды ургентного недержания мочи. Средний уровень общего ПСА крови 12 пациентов составил 0,24 нг/мл, сумма баллов по шкале IPSS – 12 [25].
По данным ЕАУ (2019), кандидатами на криоабляцию стали пациенты с локализованным РПЖ и пациенты с минимальным распространением опухоли за ее пределы [26], ПСА должен быть <20 нг/мл, индекс Глисона <7, объем ПЖ не должен превышать 40 см3. Также важно проинформировать пациентов с ожидаемой продолжительностью жизни более 10 лет о том, что практически нет данных об отдаленных, 10- и 15-летних, результатах лечения.
Наиболее частым осложнением криоабляции ПЖ считается эректильная дисфункция (ЭД), частота которой, по разным данным, превышает 80%. Развитие ЭД объясняется распространением «ледяного шара» за пределы простаты – в зону расположения сосудисто-нервных пучков [23]. Около 5% пациентов требуется выполнение ТУРПЖ в связи с развитием инфравезикальной обструкции.
B. J. Donnelly et al. [27] оценили качество жизни и сексуальную функцию после криоабляции, анализ качества жизни по опроснику FACT-P (Functional Assessment of Cancer Therapy Prostate Module) и определили, что через 12 мес. после криоабляции по большинству показателей балл возвращается к исходным значениям. Все мужчины сообщили о полной потере эректильной функции через 6 нед. после лечения. Через 3 года 18 (47%) из 38 пациентов остались способными совершать половой акт, из них 5 спонтанно и 13 с силденафилом или простагландином.
В работе [24] отмечено, что серьезные осложнения криоабляции простаты (выше IIIb по классификации Clavien – Dindo) встречаются редко и только в позднем послеоперационном периоде: стеноз шейки мочевого пузыря – у 1,7%, острый гнойный орхоэпидидимит – у 0,8%. В раннем послеоперационном периоде основная доля осложнений (II и IIb по Clavien–Dindo) обусловлена транзиторной задержкой мочи после первого (44%) или повторного (32,8%) удаления уретрального катетера.
Результаты 3-летнего наблюдения пациентов, перенесших криоабляцию или ЛТ, показали, что сексуальная функция была достоверно лучше у пациентов группы ДЛТ [28].
В настоящее время отсутствуют проспективные сравнительные исследования по оценке онкологических результатов криотерапии как радикального метода лечения локализованного РПЖ, в большинстве исследований не было групп сравнения или в них описаны серии пациентов с коротким периодом наблюдения. В мета-анализе 566 публикаций по криоабляции отмечено, что в литературе не представлено контролируемых исследований, не доступны данные по выживаемости и не определены достоверные биохимические индикаторы для оценки эффективности лечения [29]. После криоабляции показатели выживаемости без признаков прогрессирования (ВПП) составляют 36–92% (прогнозируемые 1- и 7-летние данные) в зависимости от группы риска и критериев рецидива. Отрицательные результаты биопсии выявляются в 72–87% случаев, но пока недоступны данные по результатам биопсии для используемых в настоящее время криосистем 3-го поколения.
M. Oishi et al. [30] ретроспективно оценили осложнения и функциональные и онкологические результаты лечения мужчин, которые подвергались первичной криоабляции всей железы по поводу локализованного РПЖ. Частота осложнений (IIIa по Clavien–Dindo) составила 3%, при этом не сообщалось о развитии ректальных свищей. Частота воздержания и потенции составила 96 и 11% соответственно, 5-летняя биохимическая, клиническая безрецидивная выживаемость и выживаемость без метастазов – 81, 83 и 95% соответственно.
Российский опыт применения первичной тотальной криоабляции ПЖ отражен в работе А. В. Говорова [24]. При медиане наблюдения 30,5 мес., по критериям D’Amico, биохимическая безрецидивная выживаемость больных РПЖ низкого, промежуточного и высокого рисков составила 90, 77 и 63% соответственно. А 5-летняя выживаемость без биохимического рецидива была достоверно выше при стадиях заболевания Т1 (86%) и Т2 (69%) по сравнению со стадией Т3 (51%), а также при сумме баллов по Глисону 6 (85%) и 7 (79%) по сравнению с суммой Глисона 8 (49%).
Спасительная криоабляция рассматривается как альтернатива РПЭ, так как к ее потенциальному преимуществу относится меньшая травматичность при равной эффективности. Однако к настоящему моменту проведено всего несколько исследований и их результаты не рассматриваются как обнадеживающие. После использования криоабляции спасения при рецидиве РПЖ после ЛТ 5-летняя ВСБР варьировалась от 50 до 70% [31]. В многоцентровом исследовании, в котором были описаны современные результаты криоабляции спасения, 5-летняя ВСБР по критериям Phoenix составила 54,5%. От 32,6% пациентов после спасительной криоабляции, которым проводилась биопсия ПЖ, был получен положительный результат [32].
В работе [24] выживаемость без биохимического рецидива РПЖ у больных после сальважной криоабляции простаты при оценке по критериям ASTRO через 12, 24, 36, 48 и 60 мес. составила 82, 71, 63, 54 и 48% соответственно. Через 1 год после криоабляции простаты по результатам контрольной биопсии, выполненной 96 пациентам, аденокарцинома выявлена в 20% наблюдений – в группе сальважной криоабляции.
Bahn et al. [33] опубликовали данные анализа результатов лечения 590 пациентов со средним временем наблюдения для всех пациентов 5,43 года, которым проводили криоабляцию клинически локализованного и местнораспространенного РПЖ. Процентное распределение пациентов в группах низкого, среднего и высокого рисков составило 15,9%; 30,3 и 53,7% соответственно. При пороге ПСА <0,5 нг/мл показатели 7-летней ВСБП составили 61%, 68 и 61% в группах низкого, промежуточного и высокого рисков соответственно.
Начиная с 2014 г. рекомендации касательно спасительной криоаблации не менялись. По состоянию на 2019 г. ЕАУ рекомендует рассматривать спасительную криоабляцию только в отношении пациентов без тяжелых сопутствующих заболеваний, с ожидаемой продолжительностью жизни не менее 10 лет, локализованным РПЖ стадии pT1c–T2, индексом Глисона ≤7, временем удвоения ПСА ≥16 мес. и уровнем ПСА <10 нг/мл до криоаблации [26].
Высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук (HIFU) представляет собой сфокусированные ультразвуковые волны, вызывающие повреждение ткани за счет механического и термического эффектов, а также эффекта кавитации [34]. Цель HIFU – повысить температуру ткани опухоли до 65°C и выше для ее разрушения посредством достижения коагуляционного некроза. HIFU – минимально инвазивная технология, которая может стать альтернативой традиционной терапии, особенно в группах низкого и среднего рисков, в рамках основного и спасительного лечения.
Терапевтический ультразвук одобрен организацией FDA (Food and Drug Administration) как нехирургическая, «безыгловая» аблятивная терапия, не использующая ионизирующую радиацию.
В работе [35] в 72% случаев после проведения УЗ-абляции наблюдался некроз тканей, часто сопровождаемый острым, хроническим или гранулематозным воспалением [35]. Важно подчеркнуть, что термический эффект от ультразвуковой абляции не мешает патологу в обнаружении рецидива и определении степени атипии опухолевой ткани, согласно индексу Глисона, а также позволяет использовать иммуногистохимические маркеры.
В настоящее время доступно пять устройств для выполнения УЗ-абляции. В последние годы FDA одобрила два из них: Sonablate и Ablatherm II, а также аппарат последнего поколения для фокальной терапии Focal One.
A. Gelet et al. [36] изучали группу из 82 пациентов с гистологически верифицированным РПЖ (стадия Т1–Т2), подвергнутых HIFU в связи с имеющимися противопоказаниями к РПЭ. Безрецидивная выживаемость составила 62% в отсутствие у пациентов признаков опухолевого прогрессирования в течение 60 мес. Согласно данным A. Blana et al. [37], у 93,4% мужчин, пролеченных с помощью HIFU, результаты контрольной биопсии были отрицательными. При этом надир ПСА имел сильную корреляцию с частотой развития рецидива.
L. Mearini et al. [38] по результатам проспективного исследования, в котором оценили HIFU в качестве основного лечения РПЖ, сформулировали следующие выводы: долгосрочный благоприятный исход HIFU связан с тщательным отбором пациентов, причем идеален случай заболеваниея с низким и средним рисками; низкий послеоперационный уровень ПСА надира служит предиктором долгосрочного безрецидивного течения.
О долгосрочной эффективности HIFU локализованного РПЖ по сравнению с РПЭ можно судить по результатам исследования B. Rosenhammer и et al. [39]. В то время как для цельной железы HIFU характеризуется сопоставимой долгосрочной эффективностью для пациентов с низким риском, достаточный контроль рака у пациентов с высоким риском более чем сомнителен. Для подгруппы пациентов со средним риском показатели общей выживаемости сопоставимы на сроках до 10 лет, что позволяет предположить, что HIFU может быть альтернативой для пожилых пациентов.
HIFU ассоциируется с развитием таких неблагоприятных последствий, как недержание мочи, стеноз или стриктура шейки мочевого пузыря/уретры и инфекции мочевыводящих путей, ректальные осложнения (ректоуретральный свищ и ожог прямой кишки), боль и ЭД. Острая задержка мочи представляет собой одно из наиболее частых осложнений HIFU и развивается почти у всех пациентов, требуя наложения эпицистостомы на период от 12 до 35 дней. Обструкция уретры некротизированными тканями способствует развитию инфекционных осложнений, которые требуют проведения антибактериальной терапии и увеличивают длительность пребывания пациентов в стационаре. Так, в исследовании [40] развитие инфекционных осложнений констатировали у 18,2% больных. В целом описанная частота инфекций мочевыводящих путей варьируется в пределах от 2,1 до 26,5%. Некоторые исследователи отмечают, что ректоуретральный свищ образуется только у пациентов, прошедших повторный курс HIFU [41, 42]. Стрессовое недержание мочи I–II степеней развивается примерно у 12% пациентов.
В обзоре [43] представленная частота ЭД варьировалась в пределах от 20 до 63,7%. Согласно данным опросника МИЭФ, потенция сохранена у 42,3% пациентов без фармакологической коррекции. Случаи обструкции мочевого пузыря были связаны с побочными эффектами, включая стриктуру уретры, контрактуру шейки мочевого пузыря и стенозы, и выявлялись с частотой 0–51,5%.
Российский опыт использования HIFU отражен в работе Г.Е. Крупинова [44]. Получены неплохие результаты общей 5-летней выживаемости больных с низким, умеренным и высоким онкологическими рисками – 93,9; 90,3 и 79,2% соответственно; безрецидивной 5-летней выживаемости – 85,7; 80,5 и 75% соответственно. Отрицательные результаты контрольной биопсии после двух сеансов HIFU имели место у 84,7% пациентов, стабильный уровень ПСА – у 78%. Также стоит отметить, что данный метод улучшает результаты лечения больных генерализованным РПЖ в комплексной терапии как местная адъювантная терапия. Общая 5-летняя выживаемость больных этой группы составила 33,3%, безрецидивная – 13,3%.
Эффективность спасительной HIFU исследовалась в многочисленных центрах США и Канады. Из 117 пациентов с радиорецидивным РПЖ по прошествии 12 мес. биопсия была отрицательной у 61% пациентов. Кроме того, у 83% пациентов наблюдалось снижение уровня ПСА после абляции [45]. Предполагалось, что уровень осложнений после спасительной HIFU выше, чем у пациентов после основной HIFU, так, например, во многих исследованиях сравнительно чаще наблюдается эректильная дисфункция. Некоторые группы исследователей предположили, что недержание мочи – самое частое осложнение после спасительной HIFU: максимальное значение показателя встречаемости достигало 49,5% [46].
Изначально в Европейских руководствах главными кандидатами на проведение HIFU были пациенты с локализованным РПЖ (Т1–2N0M0, индекс Глисона ≤ 6), имевшие противопоказания к хирургическому лечению [26]. Однако с накоплением клинического опыта критерии были скорректированы и в настоящее время включают терапию части железы при односторонних малообъемных опухолях, опухолях низкой степени дифференцировки (Т1–2аNх/0M0; ПСА ≤20 нг/мл; индекс Глисона ≤7); спасительная терапия при рецидивирующем РПЖ – РПЭ, лучевая или гормональная терапия и при прогрессировании РПЖ как дополнение – неоадъювантная терапия (Т3–4Nх/0М0; любые градации Глисона и уровень ПСА).
Несмотря на обнадеживающие данные, текущие Европейские рекомендации предлагают использовать HIFU при неметастатическом РПЖ только в рамках клинических испытаний [26]. Рекомендации Американской ассоциации урологов не предлагают HIFU для лечения локализованного РПЖ ввиду недостатка убедительных данных в пользу его эффективности и безопасности. Пока не будут получены результаты долгосрочных наблюдений или рандомизированных контролируемых испытаний, рекомендации вряд ли изменятся.
В последнее время клиницисты и исследователи изучают фокальную терапию. По данным большинства авторов, именно ведущая опухоль определяет развитие онкологического процесса и служит источником метастазирования. Эффективной абляцией данного участка можно добиться полного уничтожения опухолевого очага, предотвратить местное распространение и метастазирование. Неосновные очаги опухоли чаще имеют высокую дифференцировку, менее агрессивны, склонны к медленному развитию и как следствие – минимально влияют на риск рецидива РПЖ [47].
Для фокальной терапии используют брахитерапию, крио--абляцию, HIFU, лазерную абляцию, фотодинамическую терапию, необратимую электропорацию (Нанонож).
В рекомендациях ЕАУ (2018) [26] представлены критерии отбора для фокальной терапии. В идеале кандидатам на фокальную терапию необходимо проводить трансперинеальную шаблонную биопсию с картированием, но в специализированных центрах допустимо использовать и современные методы мультимодальной МРТ с ТРУЗИ-биопсией. Фокальную терапию следует проводить только пациентам с РПЖ низкого и промежуточного рисков с клинической стадией cT2a и радиологической стадией cT2b; необходимо с осторожностью консультировать пациентов с ранее выполненными операциями на ПЖ, так как данные по функциональным и онкологическим результатам отсутствуют; пациентам, перенесшим ДЛТ ПЖ, фокальная терапия противопоказана; следует информировать пациентов о том, что данный вид лечения остается экспериментальным и может возникнуть необходимость в повторном прохождении лечения.
В 2018 г. K. J. Tay et al. [48] по результатам систематического обзора сформулировали следующие рекомендации для контроля рецидива после первичной фокальной терапии РПЖ: многопараметрическая МРТ должна проводиться через 3–6, 12–24 мес. и через 5 лет после фокальной терапии; целевой биопсии должны быть подвергнуты обработанная зона (через 3– мес. после процедуры) и любой подозрительный участок, наблюдаемый на МР-томограмме. Кроме того, биопсия должна быть выполнена через 12–24 мес. и через 5 лет.
В систематический обзор [49], посвященный оценке эффективности фокальной терапии при локализованном РПЖ, включены результаты лечения 3230 пациентов из 37 исследований, изучавших различные способы воздействия, такие как HIFU, криоабляция, фотодинамическая терапия, лазерная интерстициальная термотерапия, фокальная брахитерапия, необратимая электропорация и радиочастотная абляция. Сделан вывод о недостаточном уровне достоверности имеющихся данных, поскольку большинство исследований были одноцентровыми, ретроспективными, без группы сравнения, а также вследствие различий в определениях, подходах, стратегиях и длительности наблюдения и оцениваемых показателях. Хотя результаты обзора свидетельствуют о том, что фокальная терапия имеет благоприятный профиль осложнений при кратко- и среднесрочном наблюдении, ее онкологическая эффективность не доказана по причине отсутствия достоверных данных, полученных при сравнении с исходами стандартных вмешательств, таких как РПЭ и ДЛТ.
С учетом отсутствия убедительных сравнительных среднесрочных и долгосрочных онкологических показателей фокальная терапия остается экспериментальным методом лечения; необходимо провести хорошо спланированные проспективные исследования с описанием стандартизированных показателей, прежде чем можно будет дать рекомендации по применению фокальной терапии в рутинной клинической практике.
Фокальная криоабляция ПЖ впервые была представлена G. Onik в 2002 г., прооперировавшим 9 пациентов с РПЖ. При среднем сроке наблюдения (36 месяцев) у всех наблюдавшихся 9 пациентов роста уровня ПСА отмечено не было; 6 пациентам выполнена контрольная биопсия ПЖ, не выявившая РПЖ ни в одном случае; 7 пациентов отмечали удовлетворительную половую функцию [50].
Хирургическая техника фокальной абляции схожа с методикой криоабляциии целой железы. Процедура подходит для лечения локализованного рака без метастазов. Фокальное лечение РПЖ возможно при условии установления точной локализации опухоли внутри ПЖ путем сатурационной биопсии – единственного метода картирования РПЖ.
Каким должно быть наблюдение за пациентами после выполнения криоабляции четко еще не определено. Авторы используют различные критерии для диагностики биохимического рецидива, например, такие как ASTRO и Phoenix. В 2008 г. G. Onik et al. [51] представили результаты наблюдения за 48 пациентами, перенесшими фокальную криотерапию РПЖ. В течение 2 лет после лечения уровень ПСА оставался стабильным у 94% пациентов, составив в среднем 2,19 нг/мл. Через 1 год 24 пациентам выполнена контрольная биопсия ПЖ, ни в одном случае не выявившая РПЖ.
В рандомизированном исследовании B. J. Donnelly et al. [52] онкологические результаты лечения мужчин с локализованным РПЖ с помощью наружной ЛТ или криоабляции оказались одинаковыми. Также не было различий в общей и специфической для данного заболевания выживаемости. Jr. Fowler et al. считают, что криохирургия кажется превосходящей над лучевой терапией для пациентов с умеренным и высоким рисками: по их данным, она сопоставима с рядом простатэктомий и брахитерапий для пациентов как со средним, так и с высоким риском [53].
В российском исследовании при медиане наблюдения после фокальной криоабляции 24,5 мес. местный рецидив РПЖ выявлен у 2 больных только в контралатеральной (непролеченной) доле, все послеоперационные осложнения соответствовали I степени тяжести по Clavien–Dindo и разрешились в срок до 7 сут.; достоверного ухудшения качества мочеиспускания или эректильной функции у пациентов не отмечено [24].
В задачу фокальной HIFU-терапии входит осуществить лечение в пределах опухоли у пациентов с неинвазивным монофокальным локализованным РПЖ.
Среди 50 пациентов с клинически локализованным односторонним РПЖ, перенесших гемиабляцию посредством HIFU, 5-летние показатели общей, ракоспецифической выживаемости и выживаемости без метастазов составили 87, 100 и 93% соответственно [54]. Эффективность фокальной HIFU отражена в клинических исследованиях, проведенных на территории США и Канады. Процедура фокальной абляции ПЖ была проведена аппаратом Ablatherm 135 мужчинам. Из 135 пациентов отрицательные результаты биопсии были получены в 59% спустя 24 мес. после проведения процедуры. В дополнение: 74% мужчин достигли надира ПСА в 0,5 нг/мл после HIFU, в то время как стабильный уровень ПСА отмечен в соответствии с определением Феникса о биохимической неудаче в 90,5% из 116 пациентов, которые были оценены [55].
В настоящее время отсутствует универсальное определение биохимического рецидива у пациентов после HIFU, что приводит к проблемам в оценке онкологической эффективности. Биопсию простаты и мультипараметрическую МРТ стандартно выполняют через 1 год после лечения или ранее, если уровень ПСА вызывает беспокойство. Отрицательные результаты МРТ подразумевают отсутствие клинических признаков болезни, требующих лечения.
Помимо лазерной абляции в литературе встречаются такие названия данного метода, как фототермическая терапия и интерстициальная лазерная фотокоагуляция.
Первое применение лазера для коагуляции тканей описал S. G. Bown в 1983 г. [56]. Основной принцип лазерной абляции заключается в превращении в тканях лазерного света в тепловую энергию. В 1994 г. Z. Amin et al. [57] представили результаты первого клинического применения интерстициальной лазерной термотерапии для лечения больного с местным рецидивом РПЖ после ДЛТ.
Процедура интерстициальной лазерной терапии начинается с планирования, включающего компьютерное моделирование и создание виртуальной 3D-модели ПЖ с разметкой опухоли. Трансперинеально или трансректально к намеченному опухолевому участку подводят иглу со световодом диаметром 300–600 μm. Наиболее часто используемый лазер для фокальной лазерной абляции – лазер на иттрий-алюминиевом гранате с неодимом (Nd-YAG) с длиной волны 1064 нм, но он постепенно замещается более компактными и менее дорогими инфракрасными (800–980 нм) диодными лазерами. Излучаемые фотоны света вызывают повышение температуры. Локальное повышение температуры ткани свыше 608°C вызывает быстрый коагуляционный некроз и внезапную клеточную смерть [58].
Подведение лазерного луча через гибкое кварцевое волокно диаметром от 250 до 1000 мм позволило выполнять фокальную лазерную абляцию через гибкие оптиковолоконные устройства. Повышение лазерной силовой мощности в новых лазерах позволяет улучшать передачу света и увеличивать зону абляции, ускорять процесс локального нагрева вблизи лазерного волокна, что, однако, несет риск перегрева и обугливания прилежащих тканей. Обугливание ткани снижает оптическую проницаемость и проведение тепла, уменьшает размер зоны абляции. Для ограничения этого эффекта и предотвращения перегрева ткани возле наконечника волокна применяют систему закрытого водяного охлаждения для лазерной аппликации, что обеспечивает условия для подведения более высокой лазерной мощности и предотвращает обугливание ткани. Таким образом, посредством использования множества высокомощных волокон с водяным охлаждением возможно подвергнуть абляции зону диаметром до 80 мм.
Методы фотодинамической терапии (ФДТ) основаны на введении в организм пациента фотосенсибилизаторов, избирательно накапливающихся в опухолевой ткани, которые при световом, в частности лазерном, воздействии могут приводить либо к излучению кванта света, вследствие чего можно регистрировать их флюоресценцию, либо активировать образование цитотоксических веществ, прежде всего синглетного кислорода и других активных радикалов, накопление которых сопровождается разрушением жизненно важных структур опухолевых клеток и их гибелью. Кроме прямого фототоксического воздействия на опухолевые клетки при ФДТ реализуются и другие механизмы деструкции: нарушение кровоснабжения опухолевой ткани вследствие повреждения эндотелия и тромбоза кровеносных сосудов; цитокиновые реакции, обусловленные стимуляцией продукции фактора некроза опухоли, интерлейкинов, активацией макрофагов и лейкоцитов.
В 2013 г. A. R. Azzouzi et al. опубликовали первые результаты применения ФДТ с препаратом TOOKAD®. В исследовании принимали участие 85 больных локализованным РПЖ низкого риска. В качестве источника излучения авторы применяли диодный лазер с длиной волны 854 нм. По данным МРТ, у 76% пациентов в зоне воздействия определялись очаги некроза. По результатам повторной биопсии простаты, выполненной через 6 мес., у 74% больных опухолевых клеток выявлено не было. Такие побочные явления, как парестезия, боль в промежности, гематурия, недержание мочи легкой и средней степеней выраженности, авторы наблюдали у 87% больных. Осложнения тяжелой степени зарегистрированы в 9,3% случаев [59].
C. M. Moore et al. [60] сравнили эффективность различных доз препарата WST11 (TOOKAD® Soluble) на примере 40 больных локализованным РПЖ. Четырнадцати больным, составившим первую группу наблюдения, препарат вводили в дозировке 4 мг/кг, во второй группе пациенты получали препарат в дозировке 2 и 6 мг/кг. Воздействие на опухолевые участки осуществляли диодным лазером с длиной волны 753 нм. Через 6 мес. после лечения всем больным была выполнена повторная биопсия, результаты которой были отрицательными у 83 и 45% больных первой и второй групп соответственно. Расстройства мочеиспускания носили невыраженный характер и были купированы медикаментозно. Оценка эректильной функции (по МИЭФ-5) в группах до и после лечения была сопоставимой. Авторы заключили, что оптимальной лечебной дозировкой препарата WST11 (TOOKAD® Soluble) остается 2 мг/кг [60].
В настоящее время продолжается изучение эффективности и безопасности метода, разрабатываются показания к его применению, подбираются оптимальные режимы лазерного излучения и способы его доставки, а также дозы фотосенсибилизаторов. В связи с большим количеством нерешенных вопросов метод не получил широкого применения и находится на стадии клинической разработки.
Необратимая электропорация – это новый метод нетермической абляции мягких тканей. Механизм абляции имеет некоторые теоретические преимущества при лечении РПЖ. Он позволяет проводить фокусированное лечение ПЖ под визуальным контролем, обеспечивая потенциальную защиту соседних структур, что теоретически должно снижать частоту и выраженность побочных эффектов по сравнению со стандартным лечением [61].
Необратимая электропорация представляет собой метод абляции мягких тканей, использующий нетепловую энергию в виде коротких микросекундных импульсов локализованных электрических полей высокого напряжения. При воздействии такой энергии в клеточной мембране формируется наноразмерный дефект, что приводит к нарушению клеточного гомеостаза и как следствие – к гибели клетки путем апоптоза, а не некроза, как в случае применения тепловых или радиационных методов абляции. Областью применения необратимой электропорации являются опухоли, расположенные в труднодоступных местах (поджелудочная и предстательная железа, печень, почки и др.), где точность абляции и сохранение внеклеточного матрикса, кровотока, нервов, протоков приобретают первостепенное значение. В зависимости от напряжения создаваемого электрического поля данный процесс может быть обратимым (при напряжении менее 1 кВ) и необратимым (более 3 кВ).
Показания к проведению необратимой электропорации: уровень ПСА менее 15 нг/мл, сумма по Глисону 6–7; стадия Т1с–Т2а пo результатам биопсии.
S. Dong et al. [62] в 2018 г. впервые изучили эффективность и безопасность высокочастотных биполярных импульсов при абляции РПЖ человека. В этом исследовании приняли участие 40 пациентов. Все пациенты получили 250 высокочастотных биполярных импульсов с частотой повторения 1 Гц. Через 4 нед. после лечения края абляции были различимыми при сканировании с помощью МРТ, капсула простаты и уретра были сохранены. Восьми пациентам выполнена РПЭ для патологического анализа, который показал, что уретра и сосудистая сеть в ПЖ были сохранены. Это исследование – первый ценный опыт, подтверждающий возможность абляции опухоли высокочастотными биполярными импульсами в клинических условиях.
M. Valerio et al. [63] провели лечение 19 пациентов (средний возраст – 60 лет), средний уровень ПСА у которых составил 7,75 нг/мл. Наблюдалось статистически значимое улучшение симптомов мочеиспускания, на что указывали изменения в показателях UCLA-EPIC (UCLA Expanded Prostate Index Composite) и IPSS. Эректильная функция, согласно данным МИЭФ-5, оставалась стабильной. Уровень ПСА снизился в среднем до 1,71 нг/мл. Остаточного заболевания не обнаружено у 61,1% пациентов, в 33,3% наблюдений диагностировали клинически значимое заболевание.
В исследовании [64] методом необратимой электропорации пролечены 25 больных РПЖ. Медиана наблюдения составила 10,9 мес. По результатам биопсий, признаки РПЖ отсутствовали у 84% больных, 94% из которых не отметили ухудшения мочеиспускания. У 2 пациентов возникло осложнение в виде инфекции мочевыводящих путей и эпидидимита, у 14 отмечены кратковременные симптомы в виде гематурии и инфекции нижних мочевыводящих путей. В 2 (8%) наблюдениях имело место недержание мочи. У 4 (16%) мужчин в зоне абляции обнаружены раковые клетки.
В своем проспективном исследовании M. J. Scheltema et al. [65] сравнили 50 пар пациентов с РПЖ стадии T1c–cT2b после нейросберегающей роботассистированной простатэктомии и необратимой электропорации, используя опросники (EPIC) и опросник состояния здоровья (SF-12), физические и психические компоненты. Электропорация продемонстрировала значительное превосходство в сохранении удержания мочи без прокладки и эрекции, достаточной для полового акта. Абсолютные различия составили 44, 21, 13 и 14% для удержания мочи и 32, 46, 27 и 22% для эрекции через 1,5; 3, 6 и 12 мес. соответственно. Сводные баллы EPIC не показали статистически значимых различий. Выраженность симптомов нижних мочевыводящих путей уменьшилась у пациентов обеих групп через 12 мес., хотя у пациентов после электропорации первоначально было больше жалоб.
Метод необратимой электропорации имеет низкий процент побочных явлений, таких как недержание мочи или влияние на эректильную функцию. Медиана наблюдений варьировалась от 4 до 61 мес. При контрольной биопсии раковые клетки обнаруживались в 13,4–32,4% наблюдений. Опухолевоспецифическая выживаемость в двух исследованиях составила 100% [63, 65].
Анализ литературы показал, что в настоящее время основной тенденцией развития медицины является использование по возможности малоинвазивных технологий и персонифицированный подход к лечению, обеспечивающий не только радикальность лечения, но и достижение наибольшего эффекта при нанесении наименьшего вреда для сохранения качества жизни пациента. Малоинвазивные методы как один из видов хирургического лечения РПЖ находятся в стадии совершенствования методики операции, имеющей целью повышение онкоспецифической выживаемости при снижении числа осложнений. Имеющиеся результаты применения этих методов позволяют рассматривать их как альтернативу существующим методикам лечения данной патологии. Ряд аспектов применения, в том числе разработка и внедрение четких критериев отбора/исключения пациентов, использование современных установок по стандартизированному протоколу операции в сочетании с анализом отдаленных результатов, способны определить будущее малоинвазивной хирургии в лечении РПЖ.