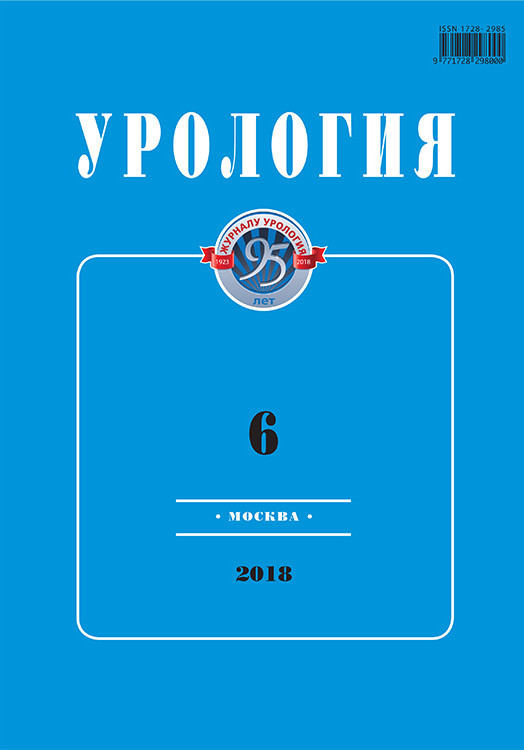В настоящее время простатит рассматривается как мультифакторное полиэтиологическое заболевание предстательной железы (ПЖ), ассоциированное с болью в области таза и промежности, нарушениями мочеиспускания различной степени тяжести, сексуальной дисфункцией и генеративными расстройствами. В итоге эти нарушения приводят к формированию психологических проблем, определяющих прогрессирующее снижение качества жизни и социальную дезадаптацию пациентов. Социальный аспект данной патологии несомненно служит одним из ключевых, так как контингент пациентов, страдающих простатитом, представлен в подавляющем большинстве мужчинами репродуктивного и трудоспособного возраста [1–4].
В соответствии с классификационной системой рабочей группы американских национальных институтов здоровья –
Национального института диабета, заболеваний пищеварительного тракта и почек (NIH – NIDDK) от 1995 г., в основу которой положен синдромальный подход, простатит подразделяется на 4 категории: I категория – острый бактериальный простатит (ОБП), II категория – хронический бактериальный простатит (ХБП), III категория – хронический простатит/синдром хронической тазовой боли (ХП/СХТБ): IIIa – воспалительная форма и IIIb – невоспалительная форма; IV категория – асимптоматический воспалительный простатит (АВП) (гистологическая градация) [5]. Выделение категорий основано на следующих принципах: 1) выраженности клинических проявлений заболевания; 2) тяжести и характере течения; 3) продолжительности заболевания; 4) определении воспалительных изменений в лабораторных показателях крови и мочи; 5) наличии в секрете предстательной железы (СПЖ) постмассажной порции мочи (ПММ) и эякуляте определенных таксонов бактерий и лейкоцитов [6, 7].
Первично нами проведен поиск текущих публикаций базы данных SciVerse Scopus за 1952–2018 гг. c использованием ключевых слов и логического оператора SQL: «bacterial» AND «prostatitis», по результатам которого обнаружено 2536 научных работ, посвященных изучению различных аспектов ОБП и ХБП [8]. Далее с учетом полученных данных о хронологии публикаций, виде статей и актуальности, содержащейся в них информации, выполнен дополнительный отбор релевантных исследовательских работ в информационных порталах The Cochrane Database, MEDLINE/PubMed Database, Embase-Elsevier, Web of Science Core Collection, eLIBRARY. Таким образом, в настоящий обзор включено 35 литературных источников, представляющих собой отечественные и зарубежные фундаментальные работы, крупные обзоры и мета-анализы, опубликованные за последние 5 лет, в которых отражена динамика представлений и мнений о некоторых аспектах БП.
Несмотря на массу исследований по эпидемиологии, этиологии и патогенезу БП, а также по используемым в настоящее время методам диагностики и комбинированной терапии этого патологического состояния, остается еще довольно много вопросов, требующих более детального изучения. Данный факт подтверждается тем, что число ежегодно публикуемых работ не имеет тенденции к снижению, а напротив, с учетом внедрения новых методик исследований и экспериментальных моделей на лабораторных животных постоянно растет.
Так, например, распространенность ОБП и ХБП в общей структуре заболеваемости простатитом варьируется от 2 до 10% [2, 7]. В то же время B. C. Gill et al., проведя обзор 38 статей, опубликованных в PubMed Database за 2014–2016 гг., полагают, что в среднем 1 мужчина из 6 опрошенных отмечает у себя симптомы, позволяющие предположить наличие бактериального простатита (БП) [1]. В свою очередь, согласно данным [6], простатит является третьим по распространенности урологическим заболеванием среди мужчин, уступая лишь доброкачественной гиперплазии предстательной железы и раку предстательной железы. Между тем отечественные исследователи сообщают о различных показателях встречаемости ХБП, варьирующихся в довольно широких пределах – от 5 до 75% – в зависимости от возраста пациентов. Одни исследователи определяют ХБП как наиболее распространенное урологическое заболевание, другие считают, что проблема БП преувеличена [2]. А. З. Винаров и соавт. [9], резюмируя итоги неинтервенционного исследования TAURUS, свидетельствуют, что распространенность ОБП и ХБП среди российских мужчин достигает 10%. F.M.E. Wagenlehner et al. [10] подтверждают эти данные и отмечают, что у этого контингента пациентов в 9,6% наблюдений в дальнейшем возможно развитие ХП/СХТБ [10].
Несмотря на значительное количество публикаций, посвященных этиологии БП, следует подчеркнуть, что в настоящее время спектр микроорганизмов, вызывающих развитие данного заболевания, окончательно не определен. Согласно данным W. Weidner et al. и H. Schneider et al., адаптированным и инкорпорированным в EAU Guidelines on Urological Infections, существует две основные группы таксонов микроорганизмов, рассматриваемых в развитии БП: 1) группа каузативных уропатогенов – роль данных микроорганизмов в генезе простатита является доказанной; 2) группа дебатируемых патогенов – окончательная роль данных микроорганизмов в возникновении простатита дискутабельна. Следует упомянуть тот факт, что превалирование того или иного таксона микроорганизма в зависимости от категории БП может серьезно варьироваться [11].
Между тем B. Lobel et al. [12] в комплексном обзоре, посвященном различным актуальным вопросам ХП, выделяют пять групп микроорганизмов, которые опосредуют развитие воспалительного процесса в ПЖ: 1-я группа – признанные патогены: грамотрицательные таксоны бактерий семейства Enterobacteriaсеae (E. coli, Klebsiella spp.), а также неферментирующие грамотрицательные бактерии (Pseudomonas spp.); 2-я группа – вероятные патогены: грампозитивные микроорганизмы (Enteroccoccus spp. и S. aureus); 3-я группа – возможные патогены: коагулазоотрицательные стафилококки (КОС), Chlamydia spp., Ureaplasma spp., Anaerobes, грибы рода Candida, Tr. vaginalis; 4-я группа – признанные непатогенные для ПЖ таксоны микроорганизмов (Diphteroides, Lactobacilli); 5-я группа – некультивируемые криптокультуры микроорганизмов: биофильмообразующие микроорганизмы, вирусы, бактерии, не имеющие клеточной стенки.
Известно, что в 50–80% случаев основными уропатогенами, вызывающими развитие БП I и II категорий, являются представители семейства Enterobacteriaceae, в частности «королева бактерий» Е. coli [1, 10]. Современными исследованиями [13] в области генотипирования бактерий установлено, что экстраинтестинальные штаммы Е. coli (ExPEC) филогенетической группы D обладают исключительным уропатогенным потенциалом по сравнению с «классической» уропатогенной Е. coli (UPEC) филогенетической группы В2, что может обусловливать тяжесть течения БП и различных инфекционно-воспалительных заболеваний мочевой системы. Данная работа акцентирует внимание на том, что помимо каузативной принадлежности к развитию ОБП и ХБП Е. coli в настоящее время рассматривается в качестве этиологической причины формирования ХП/СХТБ. Вместе с тем существуют работы, опровергающие данную точку зрения. В них высказывается мнение о превалировании в настоящее время грамположительной кокковой флоры в генезе различных категорий БП [14, 15]. В подтверждение T. Сai et al. [16] приводят данные крупного ретроспективного одноцентрового исследования эпидемиологической распространенности и устойчивости уропатогенов. В результате бактериологического исследования трех порций мочи и СПЖ, полученных посредством проведения пробы Meares–Stamey, с использованием сред Columbia-агар с 5%-ной бараньей кровью, Thayere-Martin-агар, MacConkey-агар без CO2, Roiron-бульон и Sabouraud-агар, Urèe-Arginine Lyo 2-бульон из собранных образцов биологических жидкостей изолирован 6221 бактериальный штамм. При этом в 4601 (73,9%) случае идентифицирована грамположительная флора и только в 1620 (26,1%) – грамотрицательная. Рабочей группой срок наблюдения разделен на несколько отчетных периодов: 1997–1999, 2000–2002, 2003–2005 и 2006–2008 гг. Согласно полученным результатам бактериологического исследования, отмечено статистически значимое (p<0,001) превалирование E. faecalis во всех отчетных периодах с частотой выявления 32,9; 34,1; 58,2 и 46,1% соответственно для каждого периода. Е. coli выделяли в 10, 10,3, 11,6 и 11,8% случаев (p<0,001) для тех же периодов. Исследователи отмечают достоверное (p<0,001) повышение удельного веса S. epidermidis и других видов КОС с 1997 по 2008 г. (с 3,6 до 12,5% и с 1,5 до 4,4%), а также существенно значимое (p<0,001) уменьшение частоты идентификации S. aureus (с 16,1 по 0,4%) соответственно [16]. Интересные данные представлены S. H. Кim et al. [17] в многоцентровом ретроспективном анализе 158 случаев развития вторичного ОБП (по отношению к предшествовавшим трансуретральным и трансректальным манипуляциям). Авторы отметили, что в моче и СПЖ в 82,3% наблюдений помимо основных каузативных уропатогенов верифицированы Enterobacter spp., Serratia marcescens, КОС, и только в 2,3% случаев определена микст-инфекция [17].
В противовес вышеприведенным данным результаты нескольких собственных проспективных исследований этиологической структуры ХБП у молодого контингента мужчин показали, что при бактериологическом исследовании СПЖ с использованием расширенного набора питательных сред в 95% случаев определена микст-инфекция с доминированием неклостридиально-анаэробных бактерий (НАБ) – грамположительных кокков Peptostreptococcus spp., Peptococcus niger и грамотрицательных палочек Bacteroides spp. и Fusobacterium spp.; кластер факультативно анаэробных бактерий был представлен КОС, в частности S. haemolyticus, S. warneri, S. epidermidis и др., а также E. faecalis; Corynebacterium spp. Во всех случаях в СПЖ были верифицированы аэробно-анаэробные многокомпонентные ассоциации. При этом удельный вес общепризнанных уропатогенов семейства Enterobacteriaceae не превышал 22%, а неферментирующих грамотрицательных бактерий – Ps. aeruginosae, Ps. alcaligenes, Ps. putida – составлял не более 2%. Полученные нами данные свидетельствуют о присутствии в СПЖ ассоциаций микроорганизмов, обладающих различным патогенным потенциалом. Таким образом, можно утверждать, что синергизм факторов патогенности аэробных и анаэробных бактерий может детерминировать потенциирование их вирулентных свойств и способствовать длительному существованию очага инфекции в ткани ПЖ [18, 19]. В работе [20] из СПЖ и мочи пациентов с верифицированным ХБП выделено около 150 штаммов микроорганизмов (50 – E. faecalis; 50 – Staphylococcus spp.; 30 – E. coli; 20 – различные грамотрицательные бактерии), которые in vitro обладают способностью образовывать биофильмы с различной степенью выраженности кальцификации – от активных продуцентов до нонпродуцентов (оценку проводили с помощью классического Сhristensen microwell-анализа). Интересным представляется тот факт, что параллельно проведенный с помощью электронной микроскопии анализ простатических кальцификатов, извлеченных из удаленных участков ткани ПЖ после ТУРП, выявил наличие в них схожих по структуре биофильмов среди кристаллического матрикса. Автор заключает, что способность образовывать такие структуры служит естественным защитным механизмом микроорганизмов от воздействия лекарственных препаратов и иммунного ответа. Это в свою очередь опосредует рецидивирующий характер течения заболевания.
Многими исследователями активно изучается роль С. trachomatis и других интрацеллюлярных патогенов (M. hominis, U. urealyticum), а также N. gonorrhoeae в качестве этиологических агентов ХБП у сексуально активных мужчин. В крупном исследовании, проведенном с 1999 по 2003 г. [21], представлены результаты обследования 1442 мужчин в возрасте от 18 лет и старше, которые отмечали у себя простатитоподобные симптомы и не имели в анамнезе структурных и функциональных изменений мочевой и половой систем. При использовании комбинации бактериологического исследования со стандартными питательными средами, диагностических иммунотестов (Mycoplasma duo Diagnostic Pasteur, DIAMOND тест, DNA/RNA DIGENE тест) и технологий клеточных культур McCoy Cells+Lugol stain в 3-й порции мочи и СПЖ различные таксоны микроорганизмов идентифицированы в 74,2% случаев. Причем в 37,2% наблюдений верифицирована С. trachomatis, в 10,5% – T. vaginalis и в 5,0% – U. urealyticum. Кроме того, исследователи отметили, что в этих сериях пациентов отсутствовали воспалительные изменения в СПЖ в 67,5, 33,8, 55,6% случаев соответственно. Каузативных уропатогенов семейства Enterobacteriaceae, кокковую флору, P. aeruginosae идентифицировали в 16,5% случаев, микст-инфекцию – в 5,1% [21].
Помимо внутриклеточных патогенов все больший интерес исследователей вызывает вопрос вероятной принадлежности вирусов, грибковой флоры и атипичных возбудителей к развитию различных категорий простатита. Опубликованные в 2013 г. результаты проспективного исследования «случай–контроль», проведенного с 2005 по 2009 г. с участием 131 пациента в возрасте от 18 до 59 лет с установленным диагнозом ХП/СХТБ, показали, что применение диагностических наборов PCR Assay Kit и 16S rDNA Kit для оценки СПЖ позволило идентифицировать у пациентов помимо U. urealyticum, C. trachomatis, N. gonorrhoeae также Herpes Simplex Virus 2 type, Human Papilloma Virus, Cytomegalovirus [22].
P. A. Humphrey [23] указывает на возможность развития гранулематозного простатита, вызванного грибами Cryptoccocus, Paracoccidioides, Coccidioides, Histoplasma, Blastomyces, Candida и Aspergillus у пациентов старше 50 лет на фоне иммуносупрессии, длительного приема антибактериальных препаратов или пролонгированной деривации мочи уретральным катетером, а также страдающих сахарным диабетом или имеющих онкологическое заболевание [23].
Ранее нашими исследованиями установлено, что у пациентов в возрасте 20–45 лет в 5,7% наблюдений ХБП в СПЖ идентифицируется рост дрожжеподобных грибов рода Candida (C. albicans, C. tropicalis) [19]. Некоторыми исследователями высказывается мнение о роли M. tuberculosis как этиологического агента, способного вызывать развитие гранулематозного простатита у пациентов с уротуберкулезом или получающих интравезикальную БЦЖ-терапию по поводу немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря [24, 25].
Обобщая вышеизложенный материал, становится понятным, что единого мнения относительно причин развития БП на настоящий момент не существует. Сложившееся благодаря «классическим» научным работам XX в. представление о доминирующей роли некоторых таксонов микроорганизмов в настоящее время подвергается пересмотру. Последние данные демонстрируют превалирование в СПЖ грамположительной кокковой и неклостридиальной анаэробной флоры, в большинстве своем из группы дебатируемых микроорганизмов, над каузативными уропатогенами из семейства Enterobacteriaceae, а также снижение удельного веса неферментирующих грамотрицательных бактерий. Наряду с этим внедрение новейших методик позволяет выявлять у пациентов, имеющих симптомы, ассоциированные с простатитом, в исследуемых биообразцах не только бактериальную моноинфекцию, но и различные гетерогенные многокомпонентные ассоциации микроорганизмов и атипичных возбудителей, а также вирусы и грибковую флору [26, 27]. Несложно заметить, что вектор диагностики все более направлен в сторону использования расширенного набора суперселективных питательных сред, иммунотестов и полимеразной цепной реакции (ПЦР), позволяющих обнаруживать микроорганизмы, которые не определяются стандартными микробиологическими методиками [18–22]. Так, последнее крупное исследование [28] показало, что комбинация ПЦР-анализа и реакции непрямой иммунофлюоресценции позволяет идентифицировать в СПЖ у пациентов с ХП/СХТБ один из наиболее неизученных таксонов ультрамикроорганизмов – нанобактерию (Nanobacterium sanguineum), которую в настоящий момент рассматривают в качестве этиологического агента простатита III категории [28]. В совокупности вышеперечисленные факты позволяют взглянуть на проблему простатита III категории в ином ракурсе и с большой долей уверенности полагать, что ХП/СХТБ IIIa-подтипа представляется как недиагностированный ХБП [2, 13, 29–31]. При этом ключевым моментом является именно применение современной лабораторной диагностики, которая, к сожалению, пока что не внедрена в практическое здравоохранение.
В то же время мировым урологическим сообществом принимаются меры к изменению этой ситуации. Так, в Клинических рекомендациях ЕАУ по урологическим инфекциям (2017) наряду с общепринятыми основными методами диагностики ХБП впервые предлагается выполнять микробиологическое исследование на атипичные возбудители, в том числе C. trachomatis и Mycoplasma spp. (уровень доказательности 2b; степень рекомендаций В), в качестве нового облигатного метода. Это дополнение подчеркивает необходимость внедрения новых диагностических методик верификации возбудителей [32].
Вместе с этим в приложении к приказу Министерства здравоохранения (МЗ) РФ от 09.11 2012 № 775н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при хроническом простатите» предлагается считать обязательными медицинскими мероприятиями для диагностики заболевания ОАМ микроскопический и бактериологический анализ СПЖ с определением антибиотикочувствительности, с акцентом на оценку СПЖ и мочи на наличие аэробных и факультативно-анаэробных условно-патогенных микроорганизмов [33].
Вариабельность доступных методик обследования позволяет во многих случаях расширять границы диагностического поиска для практикующего уролога. Тем не менее следует подчеркнуть, что бактериологическое исследование СПЖ и трех порций мочи с использованием стандартного набора питательных микробиологических сред, предусмотренного приказом № 535 МЗ СССР от 22.04.1985, не гарантирует точную постановку диагноза БП, о чем свидетельствуют не только результаты собственных научных работ, но и данные международных исследований, в целом указывающие на то, что применение суперселективных питательных сред и/или метода ПЦР-диагностики позволяет снижать частоту диагностических ошибок при идентификации возбудителя [34]. Данный факт подтверждается и тем, что рабочей группой Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» под руководством Р. С. Козлова созданы клинические рекомендации по бактериологическому анализу мочи, утвержденные профильной комиссией МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике 25.12.2013. Стандартизованная аналитическая технология устанавливает «…единые требования при выполнении бактериологического анализа мочи в бактериологических лабораториях медицинских учреждений…» и предусматривает использование более широкого набора селективных и дифференциально-диагностических питательных сред, автоматических тест-систем и масс-спектрометрического анализа белковых профилей для идентификации уропатогенов в различных группах пациентов [35].
Считаем, что в ближайшее время подобный стандарт должен быть разработан и внедрен для использования в лечебно-профилактических учреждениях при исследовании СПЖ. В таком случае достоверная верификация диагноза в итоге обеспечит адекватный подбор лекарственной терапии и как следствие – снизит затраты на обеспечение страхового случая.