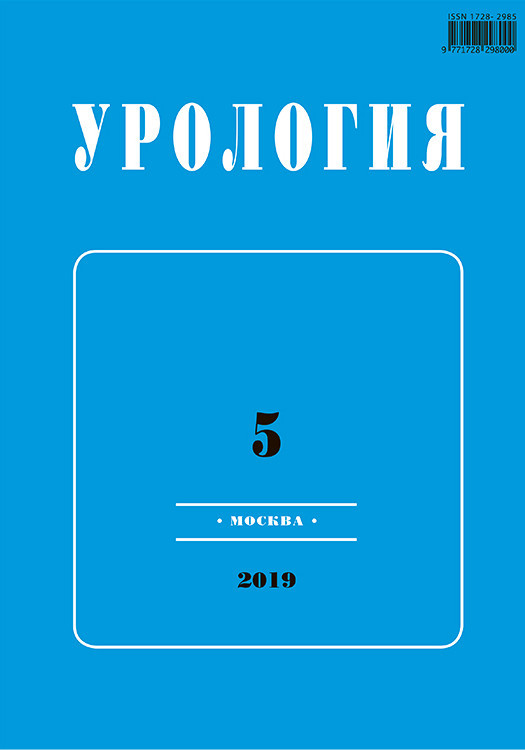Введение. Пролапс гениталий – одно из самых распространенных и проблемных заболеваний в гинекологии. Частота данной патологии достигает 50% среди женщин всех возрастных групп [1]. Тесные анатомические связи между передней стенкой влагалища, мочевым пузырем и уретрой способствуют тому, что около 40–50% женщин с опущением внутренних половых органов предъявляют также жалобы на недержание мочи при напряжении [2, 3]. Согласно исследованию, проведенному в Нидерландах, из 2797 женщин с пролапсом гениталий II стадии и более по классификации POP-Q у 55% также диагностирована стрессовая форма недержания мочи [4].
В МОНИИАГ ежегодно проходят стационарное лечение около 450 больных пролапсом гениталий, это 40% от всех госпитализированных для оперативного лечения пациенток. Из них чуть меньше половины требуют коррекции недержания мочи при напряжении. Причиной развития стрессовой формы недержания мочи могут быть как изменения в мочеиспускательном канале (несостоятельность сфинктера уретры), так и дислокация и ослабление связочного аппарата уретровезикального сегмента, как это происходит при пролапсе тазовых органов. Проблема развития нарушений мочеиспускания у пациенток с пролапсом гениталий и с анатомическими изменениями сфинктера уретры занимает особое место. По мере прогрессирования пролапса симптомы мочевой инконтиненции часто становятся менее выраженными и в итоге при тяжелых формах опущения передней стенки влагалища начинают преобладать обструктивные формы урологических расстройств, вплоть до острой задержки мочи. Особенно остро стоит проблема развития скрытой, или «замаскированной», формы стрессового недержания мочи, которая нередко появляется после хирургического лечения пролапса и становится причиной не только физического, но и морального страдания пациенток. Теория возникновения данного вида недержания мочи у пациенток с опущением передней стенки влагалища основана на том, что пролапс обусловливает механический изгиб уретры или эффект «подушки» под уретрой. После хирургического лечения пролапса данный эффект исчезает, но развивается скрытая форма недержания мочи [6]. Международная урогинекологическая ассоциация дала определение скрытой стрессовой инконтиненции как стрессовому недержанию мочи, выявленному после устранения пролапса гениталий [7]. Согласно ряду исследований, частота возникновения недержания мочи после хирургического лечения пролапса составляет около 15% [8] и коррелирует с его стадией перед операцией [9].
На сегодняшний день нет четкого представления, когда проводить одновременную хирургическую коррекцию переднего или апикального пролапса III–IV стадий и недержания мочи при напряжении, а когда лучше воздержаться от использования слинговой технологии [10]. Выделение групп пациенток с опущением передней стенки влагалища III–IV стадий и с обструктивными нарушениями мочеиспускания, у которых с высокой долей вероятности возникнет стрессовая инконтиненция мочи после устранения пролапса хирургическими методами, позволило бы оптимизировать объем операции для предотвращения развития скрытой формы стрессового недержания мочи. Такой подход не только избавил бы больных от лишних физических и моральных страданий, но и в конечном счете имел бы определенную экономическую выгоду для медицинского учреждения и государства (сокращение общих сроков пребывания больной в стационаре, снижение стоимости операции, сокращение периода нетрудоспособности).
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных пролапсом передней стенки влагалища III–IV стадий путем оптимизации хирургической тактики и методов реабилитации.
Материалы и методы. Были обследоваыо и прооперированы 56 женщин в возрасте от 54 до 68 лет с опущением передней стенки влагалища III–IV стадий по классификации POP-Q и с обструктивными нарушениями мочеиспускания. Одной из задач нашего исследования было выделить группу больных, у которых после оперативного лечения по поводу опущения передней стенки влагалища проявится стрессовая форма недержания мочи. В связи с этим в исследование были включены пациентки с ультразвуковыми признаками несостоятельности сфинктера уретры. Состояние сфинктера уретры оценивали с помощью УЗИ по методике М. А. Чечневой, в соответствии с которой необходимо выполнить трехмерную реконструкцию уретры и определить соотношение площади сечения уретры и ширины сфинктера (уретральный индекс). При наличии сфинктерной недостаточности данное соотношение составляет более 0,74 [11]. У всех пациенток значения уретрального индекса варьировались в пределах от 0,77 и до 1,8.
Для устранения пролапса всем пациенткам была выполнена влагалищная экстраперитонеальная передняя кольпопексия с применением синтетического протеза (с фиксацией проксимальной части протеза к сакроспинальным связкам) без применения слинговой технологии. Через 2 мес. после операции оценивали степень тяжести пролапса по системе POP-Q. С целью выявления мочевой стрессовой инконтиненции через 2 мес. после операции всем пациенткам проведено анкетирование по опроснику ICIQ-SF.
Результаты. Операция и послеоперационный период у всех пациенток протекали без осложнений. Средняя продолжительность оперативного вмешательства составила 38 мин, кровопотеря – менее 100 мл, средняя продолжительность пребывания пациенток в стационаре – 5 сут. Результат операции признан удовлетворительным: во всех случаях удалось ликвидировать или уменьшить степень выраженности опущения передней стенки влагалища до субклинических форм. Надо отметить, что прогрессирование заболевания отмечено у некоторых пациенток только за счет опущения задней стенки влагалища.
При опросе через 2 мес. после хирургической коррекции пролапса 48 (85,7%) пациенток указали на появление симптомов стрессовой формы недержания мочи (средней и тяжелой степеней), которые имели прогрессирующий характер. Остальные (8 [14,3%]) пациентки жалоб на недержание мочи при физической нагрузке не предъявляли.
Поскольку все исследуемые пациентки были в пери- или постменопаузальном периоде, с целью реабилитации и лечения через 2 мес. после операции всем пациенткам со стрессовой мочевой инконтиненцией в течение 6 мес. были назначены местные эстрогенсодержащие препараты (влагалищные суппозитории), проведена санация мочевыводящих путей, а также было рекомендовано выполнение упражнений для тренировки мышц тазового дна.
У 6 (12,5%) женщин было отмечено уменьшение выраженности признаков недержания мочи до уровня, при котором оно практически не влияло на качество жизни, в отношении остальных консервативное лечение признано неэффективным и рекомендовано оперативное лечение – уретропексия свободной синтетической петлей (TVT-O).
Обсуждение. Вопрос о выявлении скрытой формы недержания мочи на сегодняшний день остается дискутабельным. Существующие методы диагностики данного патологического состояния имеют различные показатели эффективности. Для выявления скрытой мочевой инконтиненции можно использовать кашлевую пробу с репозицией пролапса. При этом эффективность метода зависит от способа репозиции. По данным [12], при редукции пролапса пессарием частота выявления скрытой формы недержания мочи составила 6%, мануально – 16%, пинцетом – 21%, тампоном – 20%, зеркалами – 30%. D. M. Elser et al. [13] в своей работе показали диагностическую ценность уродинамического исследования при скрытом недержании мочи при планировании абдоминальной сакрокольпопексии.
В то же время A. M. Weber в своей работе высказал сомнение относительно экономической целесообразности выполнения данного исследования в амбулаторных условиях для определения тактики оперативного лечения тазового пролапса [14].
Выявление сфинктерной недостаточности уретры по данным УЗИ у пациенток с опущением передней стенки влагалища III–IV стадий позволило с высокой степенью вероятности прогнозировать у них развитие стрессовой инконтиненции мочи. К сожалению, существуют объективные ограничения для использования данного метода диагностики. В первую очередь это необходимость использования ультразвукового аппарата экспертного класса со специальным программным обеспечением и возможностью сканирования промежности в 3D-режиме с получением мультиплоскостных изображений. Кроме того, при полном выпадении тазовых органов происходят значительные анатомические изменения угла уретры, что в ряде случаев делает невозможным получение изображения (при невправимом пролапсе). Немаловажным фактором является уровень квалификации специалиста, выполняющего исследование. Так, корректным считается изображение уретры без выведения косых тангенциальных срезов, что может давать ложноположительный результат.
Правильное определение сфинктерной недостаточности уретры позволяет спрогнозировать развитие стрессовой инконтиненции после устранения пролапса передней стенки влагалища III–IV стадий.
Заключение. Проведенное исследование показало, что после хирургического лечения больных пролапсом передней стенки влагалища III–IV стадий и с наличием сфинктерной недостаточности уретры (по данным УЗИ) в 85,7% проявляется «скрытая» форма недержания мочи. Консервативные методы лечения оказываются эффективными лишь для небольшого числа (12,5%) пациенток.
В связи с малой эффективностью данных методов лечения группе пациенток с высоким риском реализации мочевой инконтиненции после операции оправданно использование сочетания коррекции пролапса со слинговой технологией.
Таким образом, пациентки с опущением передней стенки влагалища III–IV стадий и ультразвуковыми признаками сфинктерной недостаточности уретры входят в группу риска развития стрессовой мочевой инконтиненции после устранения пролапса. Послеоперационная терапия, включающая местное применение эстрогенсодержащих препаратов и выполнение упражнений для тренировки мышц тазового дна, направлена на улучшение результатов хирургического лечения. Комплексный хирургический подход, подразумевающий устранение пролапса и протезирование поддерживающих структур уретры, может избавить пациенток от повторной госпитализации, наркоза и операции. Это особенно важно, если учитывать, что большинство пациенток с пролапсом находятся в пожилом возрасте, часто имеют сопутствующие экстрагенитальные заболевания. Данный подход не только может избавить женщин от морального и физического страдания, но и обеспечит экономическую эффективность.