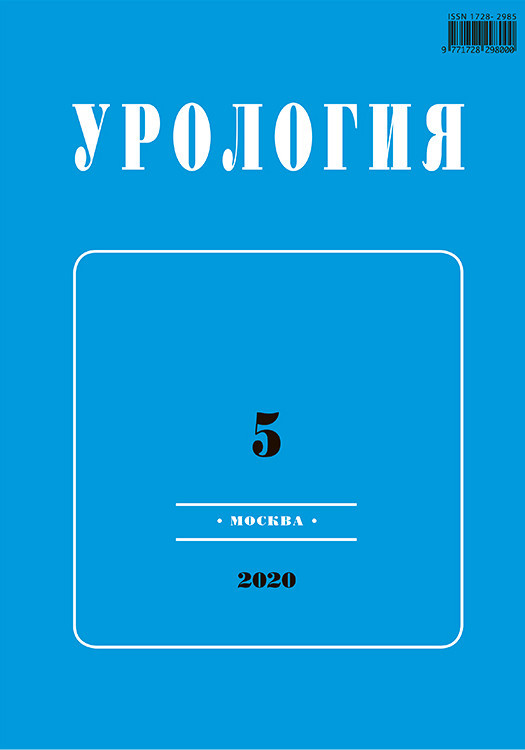Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) считаются второй по частоте после инфекций респираторного тракта причиной назначения антибактериальных препаратов в амбулаторной практике. В мире от ИМП ежегодно страдают 150 млн человек [1–4]. Урологические инфекции из разряда «доброкачественных» и «склонных к самоизлечению» все чаще становятся жизнеугрожающими. Необходимо учитывать, что эти инфекции всегда потенциально контагиозны, причем возможна передача и лекарственной устойчивости патогена [1].
Основные уропатогены, в том числе E. coli, размножаются в цитоплазме эпителиальных клеток мочевого пузыря во время острого цистита. Экспериментально показано, что пероральная антибиотикотерапия при остром цистите не приводит к полной эрадикации E. coli, что, возможно, способствует рецидиву заболевания за счет реактивации персистирующей инфекции [4]. Вопреки устоявшемуся мнению, моча не является стерильной средой, а содержит «мочевой микробиом» комменсальных микроорганизмов, которые могут влиять на течение ИМП и других симптоматических заболеваний мочевыводящих путей [5, 6].
Предложено новое объяснение хорошо известному явлению – частым рецидивам ИМП в период менопаузы, согласно которому сниженный уровень эстрогена меняет урогенитальный микробиом (в некоторых источниках его называют также уробиомом). Состав уробиома в здоровом мочевом пузыре меняется не только при нарушении гормонального равновесия, но и при возникновении каких-либо заболеваний этого органа (например, гиперактивный мочевой пузырь, интерстициальный цистит и т.д.) [2]. М. И. Коган и соавт. [7] обнаружили, что уробиом индивидуален для каждого пациента.
В последние годы возобновился интерес к патогенезу ИМП в контексте биологических и поведенческих особенностей хозяина и уропатогена. Лучшее понимание патогенеза и связанных с ним факторов риска важно для разработки новых стратегий лечения и профилактики ИМП [8].
Слизистая оболочка тонкой кишки выполняет барьерную функцию, предотвращая попадание патогенов в организм. Ишемия кишечника обусловливает локальное повреждение слизистой, что позволяет попадать жизнеспособным бактериям и эндотоксинам из желудочно-кишечного тракта в отдаленные органы. Повышенная кишечная проницаемость отражает явление, известное как бактериальная транслокация (БТ), которую иначе называют синдромом протекающей кишки. Бактериальная транслокация вызывает не только желудочно-кишечные заболевания, в том числе воспалительные заболевания кишечника и синдром раздраженного кишечника, но и такие патологические состояния, как аллергия, сахарный диабет, заболевания печени и нарушение связочного аппарата различных суставов; может приводить к системным нарушениям с высокой заболеваемостью и смертностью [9, 10].
Бактериальная транслокация из кишечника является важным механизмом развития инфекционно-воспалительного процесса. Миграция и колонизация бактерий и/или попадание бактериальных продуктов из кишечника в брыжеечные лимфатические узлы у здоровых людей являются контролируемым процессом. Повышенная проницаемость кишечника, избыточный бактериальный рост и дефект кишечной лимфатической ткани способствуют усилению БТ. Кишечные эпителиальные клетки являются первой линией защиты от кишечных патогенов, однако некоторые микроорганизмы могут нарушать этот барьер [11]. Эпителиальные клетки связаны плотными промежуточными межклеточными контактами (десмосомами), очень динамичными и легко меняют проницаемость под воздействием сигнальных молекул. Бактерии могут транслоцироваться через кишечный эпителий, используя трансцелюллярный путь и посредством эндоцитоза. Энтеропатогенная E. coli способна разрушать клеточные барьеры [12].
Наиболее широко используемыми маркерами БТ являются С-реактивный белок, прокальцитонин, бактериальная ДНК, эндотоксин, или липополисахарид, липополисахарид-связывающий белок, кальпротектин и бактерицидный белок, повышающий проницаемость. Высокий уровень маркеров БT связан с выраженным воспалительным ответом [13]. Изменение кишечной флоры и усиление БТ – обычное явление для пациентов с воспалительным заболеванием кишечника, выявленное также на модели колита на животных [13]. Хронические заболевания печени сопровождаются персистирующим воспалением, одной из основных причин которого служит транслокация бактерий из кишечника [14].
Высказано предположение, будто эпителий толстой кишки может регулировать иммунный ответ на патогены, включая комменсалы, поскольку эпителиальные клетки кишечника активно участвуют в иммунных процессах [15]. В норме иммунная система слизистой оболочки кишечника постоянно стимулируется содержимым просвета и бактериями [16]. Именно на этом феномене основан эффект уроваксома – пероральной вакцины, содержащей лиофилизированные штаммы E. coli. Уроваксом за счет мукозоассоциированной реакции обеспечивает и поддерживает невосприимчивость уротелия к E. coli [17].
Бактериальная транслокация из кишечника влияет на ЦНС, поскольку кишечник двунаправленно связан с мозгом через нервные, гуморальные и иммунные пути [18]. Установлено, что кишечник является потенциальным источником инфекции после инсульта. В исследовании [19] изучены влияние возраста и роль БТ из кишечника на постинсультную инфекцию у молодых (8–12 нед.) и пожилых (18–20 мес.) мышей после временной окклюзии средней мозговой артерии. Оказалось, что инсульт вызывал БТ как у молодых, так и у старых мышей, однако молодые мыши смогли противостоять инфекции, а у старых развился сепсис.
Любое хроническое заболевание неминуемо вызывает стресс [20], а стресс приводит к изменению кишечной микробиоты и увеличению кишечной проницаемости [21]. В эксперименте на мышах показано, что психологический стресс усугублял энтеропатию, обусловленную приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и увеличивал кишечную проницаемость. На фоне стресса также произошли изменения в микробиоте подвздошной кишки, которые характеризовались увеличением общего количества бактерий и доли грамотрицательных бактерий. Индуцированная повышенная восприимчивость к НПВП и кишечная проницаемость передавались через трансплантацию микробиоты слепой кишки [22].
Изменение состава микробиома и вторичная БТ способствуют развитию депрессии за счет изменения нейропластичности [23]. У лиц с депрессией, как правило, имеются метаболические нарушения, связанные с неправильным питанием, сниженной физической активностью, хроническим воспалением [24].
Физическая активность пациентов с хронической обструктивной болезнью легких усугубляет гипоксию и способствует повышению кишечной проницаемости [25]. Частота развития синдрома «протекающей кишки» увеличивается с возрастом и при хроническом воспалении любой локализации [26].
Стандартное лечение ИМП подразумевает антибактериальную терапию, которая помимо известных побочных реакций может способствовать и усилению БТ из кишечника. В эксперименте на мышах показано, что прием антибиотиков per os вызывал перемещение комменсальных бактерий через эпителий толстой кишки, вызывая системный воспалительный ответ, регистрируемый через повышение уровня провоспалительных цитокинов и гамма-интерферона. Кишечные бактерии первоначально кумулировались в мезентериальных лимфатических узлах, вызывая воспалительную реакцию. Бактериальная транслокация произошла после однократного приема большинства протестированных антибиотиков, однако не всех [27]. В опыте на мышах с индуцированным колитом показано, что введение рифаксимина (невсасываемое производное рифамицина, является эффективным антибиотиком, который действует путем ингибирования синтеза бактериальной рибонуклеиновой кислоты) вызывало значительное уменьшение БТ из толстой кишки в брыжеечные лимфатические узлы [13].
В клинической практике у пациентов с критическими состояниями часто обнаруживаются бактериемия, сепсис или синдром полиорганной недостаточности при невыявленном очаге инфекции. Септический очаг не определялся клинически или даже на вскрытии у 34% больных с бактериемией. На основании этих данных авторы сделали вывод, согласно которому кишка служит резервуаром бактерий или бактериальных продуктов (эндотоксины, экзотоксины и фрагменты клеточной стенки), которые могут поступать из ее просвета в мезентериальные лимфатические узлы, кровоток и иные органы. Высказано предположение, будто БТ из просвета кишки в системную циркуляцию ответственна за развитие бактериемии и сепсиса у больных с критическими состояниями. Мезентериальные лимфатические узлы являются первой и часто единственной тканью, в которой обнаруживается положительная культура кишечных микроорганизмов [28]. Именно БТ объясняется развитие генерализованного туберкулеза при оральной трансмиссии (например, употребление в пищу сырого молока больных туберкулезом коров) [29, 30].
Уротелий, который выстилает внутреннюю поверхность почечной лоханки, мочеточников и мочевого пузыря, не только формирует барьер с высоким сопротивлением водному потоку и патогенам, но и функционирует как неотъемлемая часть сенсорной системы. В связи с этим нарушение целостности слизистой оболочки мочевого пузыря чревато развитием различных его заболеваний [31]. Слизистая мочевого пузыря состоит из многослойного уротелия, собственной пластинки (lamina propria), капилляров и гладкомышечных волокон. Мышечный слой не всегда присутствует в мукозе, поэтому толщина мукозы обусловлена толщиной собственной пластинки. Мочевой пузырь имеет постоянную пассивную защиту от инфекции, представленную слоем слизи, антимикробными пептидами и секреторными иммуноглобулинами. Однако в неблагоприятных условиях уропатогены могут преодолевать этот защитный барьер и вызывать воспаление. Уротелий и резидентные иммунные клетки в ответ на вторжение продуцируют дополнительные защитные молекулы, цитокины и хемокины, рекрутирующие лейкоциты в инфицированную ткань. Взаимодействие резидентных и привлеченных иммунных клеток направлено на уничтожение бактерий и формирование длительной иммунной памяти. Рецидивы цистита свидетельствуют о недостаточности иммунной памяти в мочевом пузыре. Кроме того, инфекционно-воспалительный процесс делает уротелий более восприимчивым и создает предпосылки к последующему инфицированию [33].
Слизистая оболочка мочевого пузыря имеет несколько функций. Уротелиальные сигнальные молекулы модулируют активность афферентных нейронов и сокращение гладких мышц детрузора, обеспечивая адекватное функционирование мочевого пузыря. Уротелий вырабатывает АТФ – энергетический субстрат, производит аденозин и оксид азота [34]. Один из вопросов, на который нет ответа, заключается в следующем: обусловлены ли патологические изменения функции мочевого пузыря, такие как гиперактивный мочевой пузырь и болевой синдром в мочевом пузыре, изменениями характеристик слизистой оболочки [35]?
Моча содержит ряд вредных веществ, поэтому уротелий должен быть непроницаем, чтобы не допустить их проникновение в кровоток. Потеря непроницаемости уротелия приводит к формированию хронической боли, ургентности, а также служит пусковым механизмом развития дегенеративных изменений, которые быстро могут стать необратимыми. Барьерная функция обеспечивается тесными соединениями, бляшками уроплакина (гидрофобные бляшки на поверхности клетки) и плотным слоем гликозаминогликанов на слизистой мочевого пузыря [36].
Причина ИЦ в повышенной проницаемости слизистой оболочки мочевого пузыря [34]. Это заболевание диагностируют при наличии триады симптомов: боль, ургентность, учащение мочеиспускания, и служит диагнозом исключения; в дифференциально-диагностическом ряду первое место занимает туберкулез [30].
Факт ассоциации заболеваний кишечника с ИЦ считается установленным [36]. Однако остается открытым вопрос: обусловлена ли эта связь миграцией тучных клеток, или информация передается через нейронную связь и высвобождение нейросекреторного белка, который может изменить функцию одного органа в зависимости от статуса другого? Получены доказательства, подтверждающие обе гипотезы. У крыс индукция воспаления в кишечнике повышала проницаемость мочевого пузыря в течение 24 ч, и наоборот, индукция проницаемости мочевого пузыря разбавленным сульфатом протамина (который не вызывал физического повреждения) привела к увеличению проницаемости кишечника [36]. Б. А. Бердичевский и соавт. [37] установили, что операционная травма при любом хирургическом вмешательстве на органах брюшной полости и забрюшинного пространства способствует БТ из желудочно-кишечного тракта в мочевыводящие пути. В результате могут быть зафиксированы бессимптомная бактериурия либо клинические формы ИМП.
Кишечный патобионт может транслоцировать, то есть проходить через ткани, в норме непроницаемые для микрофлоры, и стимулировать аутоиммунные реакции у генетически предрасположенных хозяев [38]. Для ряда ревматических заболеваний (ревматизм, реактивный артрит) также показана пусковая роль БТ. Есть данные о роли при ревматоидном артрите протей-ассоциированной бессимптомной ИМП. У генетически предрасположенных лиц микроорганизм может спровоцировать развитие ревматического заболевания посредством инициации выработки антимикробных и перекрестных аутоантител. Эти антитела связываются с антигенами, активируют систему комплемента, запускают выработку цитотоксических продуктов, тем самым повреждая ткани [39].
Таким образом, этиологическое и патогенетическое значение повышенной проницаемости кишечника для патогенов в развитии заболеваний различных органов и систем можно считать установленным фактом. Не вызывает сомнений и патогенетическая роль повышенной проницаемости слизистой оболочки мочевого пузыря. Одним из способов устранения указанных нарушений представляется использование ребамипида.
Ребамипид является цитопротектором и антиоксидантом. Ребамипид успешно применяют в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта на протяжении более 30 лет.
В России препарат представлен под названием Ребагит (ПРО. МЕД. ЦС Прага а. о., Чехия). В основе терапевтического действия ребамипида лежат индукция циклооксигеназы 2-го типа, повышение уровня простагландинов, уменьшение выраженности перекисного окисления липидов, ингибирование продукции свободных радикалов кислорода, стимулирование эпидермального фактора роста, фактора роста эндотелия сосудов, оксида азота, снижение уровня воспаления путем ингибирования факторов активации нейтрофилов и молекул адгезии [6, 40]. Ребамипид повышает скорость и улучшает качество заживления язвы, предотвращает образование грубого фиброза [41, 42]. Было также показано ингибирующее действие ребамипида на рост рака желудка [43]. Препарат защищает не только слизистую тонкой кишки от повреждения НПВП путем регулирования микробиоты кишечника [44], но и целый ряд других тканей. Изучение распределения в тканях человека, меченного радиоактивным углеродом ребамипида после перорального введения, показало наибольшую радиоактивность в слизистой оболочке желудка, тонкой и толстой кишки, а затем в почках и печени [45]. Его концентрация в плазме при этом оказалась намного ниже, чем в тканях, что обеспечивает высокий профиль безопасности и минимальное взаимодействие с другими лекарственными средствами.
Широкий терапевтический потенциал позволил применять ребамипид в эндоскопии, офтальмологии, химиотерапии, ревматологии. Экспериментально показан антиоксидантный и противовоспалительный эффект ребамипида [46]; антиоксидантное действие ребамипида нашло применение в лечении инфертильности у мужчин [47]. Ребамипид уменьшал тяжесть вызванного химиолучевой терапией орального мукозита у больных раком полости рта [48] и предотвращал развитие пострадиационных язв слизистой полости рта [49]. Трехмесячный курс ребамипида у больных сахарным диабетом 2-го типа статистически значимо уменьшил частоту появления тошноты или рвоты, вздутия живота, абдоминальной боли и запора [50]. 12-недельный курс ребамипида привел к статистически значимому снижению уровня протеинурии у больных хроническим гломерулонефритом с потерей белка с мочой 1,0 в сутки и выше [51].
Ребамипид существенно облегчал состояние пациентов с «сухим глазом», особенно при ношении линз [52], помогал стабилизировать слезную пленку [53]. В эксперименте на мышах показано ранозаживляющее действие ребамипида после травмы роговицы. Авторы объясняют этот эффект подавлением секреции TNF-α и инфильтрации макрофагов в конъюнктиву [54].
С целью изучения эффектов ребамипида мышам пересекали связки коленного сустава, затем еженедельно в течение 6 нед. интраартикулярно вводили ребамипид. Гистологическое исследование показало протективный эффект ребамипида в отношении суставного хряща [55]. Ребамипид ингибировал образование остеокластов человека и резорбирующую активность; индуцировал деградацию актиновых колец в зрелых остеокластах. Это позволяет утверждать, что ребамипид может быть полезным в лечении остеопороза и ревматоидного артрита [56].
Дизурия после операций по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы в значительной степени обусловлена повреждением уротелия. Ребамипид способствует заживлению ран и оказывает противовоспалительное действие в различных тканях, включая уротелий.
О снижении выраженности местного воспалительного ответа после инстилляций ребамипида свидетельствовало уменьшение количества провоспалительных макрофагов фенотипа M1 и содержания IL-1β, IL-6, IL-12 и TNF-α в моче собак [57].
Изучено влияние внутрипузырного применения ребамипида на воспаление и гиперактивность мочевого пузыря на модели химически (циклофосфамидом) индуцированного цистита у крыс. На цистометрограмме регистрировали уменьшение интервала между сокращениями детрузора, который рос на фоне использования ребамипида. Обнаружено, что инстилляции ребамипида подавляли воспаление и гиперактивность мочевого пузыря. Авторы полагают, что установленный дозозависимый эффект может лечь в основу новой стратегии лечения цистита вследствие химиотерапии [58].
В другом эксперименте оценивали патоморфологическую картину, проницаемость уротелия, цистометрограмму и ноцицептивные реакции после семи ежедневных инстилляций ребамипида крысам с химически индуцированным (гидрохлорид) циститом. Кроме того, определяли количественную концентрацию ребамипида в тканях после часовой экспозиции путем жидкостной хроматографии [59]. Ребамипид проникал в ткани мочевого пузыря; фармакологически эффективная доза сохранялась более 6 ч. Гистологическое исследование посредством сканирующей электронной микроскопии исходно выявило полиморфную клеточную инфильтрацию в стенке мочевого пузыря, повреждение плотных соединений; абсорбция красителя уротелием была увеличена. Эти изменения, свидетельствующие о повреждении уротелия и повышении его проницаемости, были дозозависимо подавлены ребамипидом. У крыс с химически индуцированным циститом зафиксированы уменьшение интервала между сокращениями детрузора, ускоренный ответ на раздражение ноцицептивных рецепторов. На фоне инстилляций ребамипида выраженность явлений гиперактивности мочевого пузыря достоверно уменьшилась. Авторы пришли к выводу: внутрипузырное введение ребамипида ускоряет восстановление поврежденного уротелия и его барьерную функцию, а также подавляют гиперактивность мочевого пузыря [59].
Этиологическое и патогенетическое значение повышенной проницаемости кишечника для патогенов в развитии заболеваний различных органов и систем можно считать установленным фактом. Не вызывает сомнений и патогенетическая роль повышенной проницаемости слизистой оболочки мочевого пузыря. Для устранения этих нарушений целесообразно применять ребамипид. Широкий терапевтический механизм действия позволил применять ребамипид в эндоскопии, офтальмологии, химиотерапии, ревматологии. Экспериментально показан антиоксидантный и противовоспалительный эффект ребамипида, что нашло применение в лечении инфертильности мужчин. Внутрипузырное введение ребамипида ускоряет восстановление поврежденного уротелия и его барьерную функцию, а также подавляет гиперактивность мочевого пузыря. Таким образом, первые результаты применения ребамипида в урологии обнадеживают; необходимо продолжать исследования в этой области.