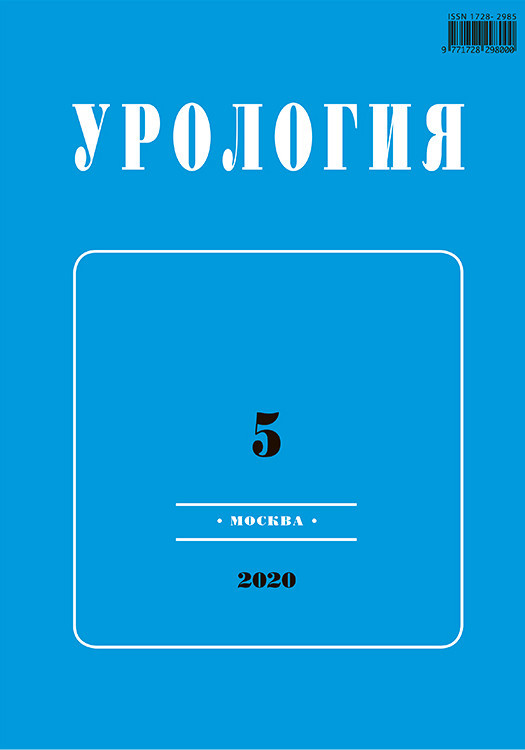Интерстициальный цистит (ИЦ) как хроническое поражение мочевого пузыря, проявляющееся выраженной дизурией, известно достаточно давно. Сегодня ИЦ относят к группе заболеваний, сопровождающихся хронической тазовой болью. По обоюдному решению Американской урологической ассоциации (AUA) (2011) и Европейской ассоциации урологов (EAU) (2012) название «интерстициальный цистит» было заменено термином «мочепузырный болевой синдром» (МБС), наиболее точно определяющим это патологическое состояние [1].
ИЦ/МБС – это хроническая или рецидивирующая эпизодическая боль, локализованная в области мочевого пузыря, которая сопровождается не менее чем еще одним симптомом, среди которых ее усиление при наполнении мочевого пузыря и учащенное мочеиспускание в дневное и/или ночное время. ИЦ/МБС продолжает оставаться недостаточно изученной, сложной в диагностике и лечении болезнью с выраженными клиническими проявлениями, которые сопровождаются поражением слизистой оболочки мочевого пузыря различной степени выраженности. Изучение ИЦ/МБС представляет особый интерес из-за своей медико-социальной значимости, обусловленной как его распространенностью, так и выраженным снижением качества жизни пациентов, вызванным возникающими социальными, гигиеническими и психологическими проблемами [2, 3].
Распространенность ИЦ/МБС оценивается в 10,6 случая на 100 тыс. населения. Значительно чаще болезнь поражает женщин (45 человек на 100 тыс. населения), чем мужчин (8 человек на 100 тыс. населения) [4]. Классическая форма заболевания, сопровождающаяся образованием в мочевом пузыре язв Гуннера, регистрируется более чем в 10% наблюдений [5].
ИЦ/МБС рассматривается как заболевание гетерогенной природы. Среди современных теорий его патогенеза особо можно выделить гипотезы об уротелиальной дисфункции, активации тучных клеток, нейрогенном воспалении, аутоиммунном процессе и оппортунистической инфекции [2].
Первостепенную роль в патогенезе ИЦ/МБС отводят процессам, протекающим в уротелии, который является специализированной тканью, участвующей в комплексной регуляции функции мочевого пузыря [6]. Многочисленные исследования установили, что при ИЦ/МБС выявляется истончение и повреждение уротелия с нарушением его барьерной функции. Последняя обеспечивается плотностью соединения зонтичных клеток, гидрофобными уропролакиновыми бляшками и поверхностным слоем гликозаминогликанов (ГАГ) [7].
В биоптате уротелия пациентов с ИЦ/МБС определяется снижение экспрессии Е-кадгерина и белка плотного соединения ZO-1, белков, обеспечивающих межклеточную адгезивную связь, в том числе и плотность межклеточных промежутков зонтичных клеток. Изменения затрагивают и дифференцировку уротелиальных клеток, что ассоциируют с аномальной экспрессией трансмембранных белков уроплакинов. Увеличение проницаемости уротелия также связывают с нарушением выработки защитного слоя ГАГ [8, 9].
В ряде доклинических исследований с индуцированием проницаемости уротелия с помощью протамина сульфата продемонстрировано относительно быстрое восстановление уротелиального барьера и структуры через вызванную травмой пролиферацию базальных уротелиальных и стромальных клеток [10]. В связи с этим наиболее вероятной причиной повышения проницаемости уротелия при ИЦ/МБС названо воспаление.
Некоторым медиаторам воспаления, таким как цитокины, гистамин и протеазы, отводится роль повышения чувствительности периферических нервных окончаний и долговременным изменениям нейрональной функции через активацию нейропластичности в афферентной сети [11].
В основу нейрогенной теории развития ИЦ/МБС положены повышение уровня субстанции Р и фактора роста нервов (ФРН) в ткани мочевого пузыря и моче пациентов. С ФРН связывают местный процесс спраутинга нервных окончаний немиелинизированных С-волокон, приводящих к усилению патологической афферентации. Интересно, что подавление ФРН в спинномозговых корешковых ганглиях уменьшает гиперактивность мочевого пузыря. Регистрируемая при ИЦ/МБС повышенная экспрессия и чувствительность ассоциированных с С-волокнами TRPV1- и P2X3-рецепторов свидетельствуют о периферической сенсибилизации [12, 13].
При этом само нейрогенное воспаление может служить источником активации тучных клеток. Тучным клеткам отводится центральная роль в поддержании воспалительного процесса при ИЦ/МБС как источника медиаторов и модуляторов воспаления, пролиферации и миграции клеток. Они являются источником ряда биологически активных веществ, таких как гистамин, цитокинины, вазоактивный пептид, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли-α, простагландины и др., а также взаимодействуют с антителами IgE [14]. Подтверждением роли аутоиммунных процессов в развитии ИЦ/МБС служит наличие антиядерных антител, а также включений IgM в уротелий, иммунных депозитов в стенку сосудов, агрегатов Т- и В-клеток [15].
Универсального алгоритма диагностики ИЦ/МБС на сегодняшний день нет. Для ИЦ/МБС характерно сочетание выраженного дискомфорта или боли с нарушением мочеиспускания. Особенностью течения ИЦ/МБС является вовлечение в патологический процесс не только мочевого пузыря, но и других органов малого таза, мышц тазового дна, центральной нервной системы [7]. Для установки диагноза важно, чтобы длительность болевого синдрома превышала 6 мес., а нарушения мочеиспускания не были причиной иного органического поражения нижних мочевыводящих путей [2]. В клинической картине ИЦ/МБС преобладают симптомы накопления со значимым учащением мочеиспускания в дневное и/или ночное время. Важно, что с этими нарушениями ассоциирована боль в области малого таза. Например, она возникает при выраженном позыве на мочеиспускание и ослабевает на короткое время после микции. Интересно, что ургентность – симптом, в большей степени характерный для гиперактивного мочевого пузыря, встречается среди 84% пациентов с ИЦ/МБС и может носить постоянный характер [16].
В литературе отмечена важность и необходимость тщательного физического и клинико-лабораторного обследования пациентов, страдающих МБС, с целью исключения заболеваний со схожей симптоматикой (инфекция мочевыводящего тракта, гиперактивный мочевой пузырь, обструкция или дивертикул уретры, хронический простатит, рак мочевого пузыря, эндометриоз и хроническая тазовая боль) [17].
Роль уродинамических исследований в диагностике ИЦ/МБС до конца не определена. В работе C. C. Hsu et al., опубликованной в 2020 г., установлено, что при ИЦ/МБС определяются более низкая максимальная цистометрическая емкость, детрузорная гиперактивность, низкая скорость максимального потока мочи и высокое максимальное давление закрытия уретры [18].
По мнению большинства авторов, цистоскопия служит неотъемлемой частью диагностики ИЦ/МБС. В исследовании С. Х. Аль-Шукри и соавт. [18] установлена корреляция клинических проявлений ИЦ/МБС с эндоскопической картиной после гидродисцензии мочевого пузыря (ГДМП) [18]. Существует и иное мнение о недостаточной информативности цистоскопии для установления диагноза ИЦ/МБС [20].
Тем не менее цистоскопия сегодня – основной метод дифференциальной диагностики классической формы ИЦ/МБС. Язва Гуннера представляет собой участок слизистой мочевого пузыря, инъецированный сосудами, условно сходящимися в одну некую точку, ее центральная часть может иметь линейный кровоточащий дефект или быть покрытой фибрином. Визуально язвы Гуннера язвами и не являются, скорее их можно охарактеризовать как зоны гиперваскуляризации [21]. Из новшеств в малоинвазивной диагностике ИЦ/МБС можно выделить узкополосную систему визуализации (NBI), предложенную японскими коллегами для исключения гуннеровского поражения и участков с ангиогенезом [22].
Другой не менее важной задачей цистоскопии является исключение поражений мочевого пузыря, дающих схожую симптоматику, например карциномы in situ [2]. Также цистоскопия позволяет установить истинную емкость мочевого пузыря, поэтому ее целесообразно выполнять под общей анестезией [23].
При безязвенной форме цистоскопия с ГДМП позволяет заподозрить ИЦ/МБС на основании визуализации не менее 10 гломеруляций в 3 квадрантах мочевого пузыря [24]. Гломеруляции представляют собой петехиальные подслизистые кровоизлияния, возникающие после растяжения стенки мочевого пузыря. Однако взаимосвязь гломеруляций только с ИЦ/МБС подвергается сомнению. В частности, G. E. Wennevik et al. пришли к такому выводу на основании анализа 29 основных публикаций, посвященных этой теме. Гломеруляции не обнаруживаются у 24–34% пациентов с ИЦ/МБС, при этом могут встречаться и у здоровых людей [25]. По этим причинам в рекомендациях AUA цистоскопия не рассматривается как основной метод диагностики ИЦ/МБС [26]. В то же время современная классификация фенотипов ИЦ/МБС, предлагаемая EAU, основана именно на эндоскопическом исследовании. Определение подтипов ИЦ/МБС базируется на данных цистоскопии и гистологического исследования биоптата стенки мочевого пузыря. К патогистологическим признакам ИЦ/МБС относят наличие воспалительной инфильтрации, грануляционной ткани, фиброзных изменений сосудистой стенки, массу тучных клеток в биоптате [22, 27].
ИЦ/МБС остается диагнозом исключения. Важной составляющей дальнейшего поиска оптимального диагностического алгоритма является применение в повседневной практике клинического фенотипирования ИЦ/МБС. Такой подход позволит лучше понять природу развития синдрома и сделает перспективным поиск разнонаправленной и в то же время фенотип-ориентированной таргентной терапии [28].
Немедикаментозное лечение ИЦ/МБС включает охранительный режим с обязательным соблюдением диеты, ограничивающей потребление поваренной соли, специй, кофейных и газированных напитков, алкоголя, отказ от курения. Применяются различные физиотерапевтические технологии, такие как тибиальная нейромодуляция, электрофорез с гидрокортизоном, иглорефлексотерапия, гирудотерапия, терапия биологической обратной связи и лечение у специалиста по физической реабилитации мышц тазового дна [20].
Консервативное лекарственное лечение заключается в приеме препаратов, способных прямо или опосредованно влиять на уротелий и иннервацию мочевого пузыря. Для лечения ИЦ/МБС применяют нестероидные противовоспалительные препараты, антиконвульсанты, трициклические антидепрессанты, антигистаминные средства, гидроксизин, натрия пентосан полисульфат, α1-адреноблокаторы, гепарин, антихолинергические препараты и иммуносупрессоры. Однако ввиду незначительной эффективности лекарственная пероральная терапия сегодня чаще назначается в составе комплексного лечения ИЦ/МБС [28, 29]. Недостаточный уровень ответа на пероральное лечение и убеждение, что уротелиальная дисфункция лежит в основе патогенеза синдрома, обусловливают высокую частоту использования внутрипузырной лекарственной терапии ИЦ/МБС. К преимуществам такого лечения относятся возможность интенсивного использования терапевтических агентов и ограниченный системный эффект, несмотря на инвазивность и потенциальный риск контаминации уропатогенами [31].
Внутрипузырная малоинвазивная терапия может быть направлена на стабилизацию мембран тучных клеток и подавление местного воспаления, на снижение болевой чувствительности уротелия, восстановление слоя ГАГ и на цитодеструкцию [32].
Внутрипузырная терапия с целью стабилизации мембран тучных клеток и подавления местного воспаления проводится гормональными препаратами, диметилсульфоксидом (димексидом), гиалуроновой кислотой (ГК) [33, 34].
Инстилляции ГК при ИЦ/МБС рекомендованы ЕAU (степень рекомендаций В) [35]. A. Kim et al. [36] показали 61%-ную эффективность лечения ГК у пациенток с ИЦ/МБС, рефрактерных к внутрипузырному лечению другими препаратами и антимикробной терапии. P. Rooney et al. [37] доказали способность ГК снижать индуцированную продукцию цитокинов в 4–5 раз и тем самым уменьшать выраженность воспаления, а также установили факт двукратного увеличения образования сульфатированных ГАГ и уменьшения проницаемости уротелия.
В 6-летнем проспективном исследовании с участием 126 пациентов, проведенном для оценки долгосрочного эффекта внутрипузырной терапии ГК, положительный ответ на лечение получен в 87% наблюдений [38]. Более эффективным признано введение ГК с хондроитином сульфатом. К методам восстановления слоя ГАГ относят внутрипузырные инстилляции раствора гепарина. C. Parsons et al. констатировали более чем 50%-ную эффективность такого лечения для 48 пациентов на протяжении года [39].
К препаратам цитодеструктивного действия относятся диметилсульфоксид, хлорпактин, нитрат серебра. К тому же классу действия относится и БЦЖ-терапия, эффект которой связывали со снижением уровня IL-6, повышенного при ИЦ/МБС [40]. Однако в настоящее время БЦЖ-терапия при ИЦ/МБС не рекомендована. Также ограничены инстилляции диметилсульфоксида, хлорпактина, нитрата серебра [20]. Интересно, что механизм действия ГДМП можно охарактеризовать и как цитодеструктивный.
В руководстве AUA, посвященном лечению ИЦ/МБС, инъекции БТ рассматриваются как четвертая линия терапии [41]. В специализированной литературе представлен опыт лечения ИЦ/МБС онаботулотоксином, абоботулотоксином и CBTX-A, не классифицированным FDA (Food and Drug Administration) [42]. Основной проблемой лечения инъекциями БТ является обратимость клинического эффекта, необходимость повторения инъекций. Кроме того, постоянно обсуждается вопрос рефрактерности к лечению БТ из-за возможной выработки антител при повторных инъекциях препарата [43].
Эффективность БТ связывают не только с пресинаптическим ингибированием выделения ацетилхолина, но и с уменьшением выделения медиаторов воспаления, нормализацией концентрации фактора роста нервов в уротелии [44]. Большинство авторов показали высокую эффективность повторных инъекций БТ, особенно при их сочетании с ГДМП [45]. В рандомизированном контролируемом сравнительном исследовании не выявлено различий в эффективности разных доз, 100 и 200 ЕД, онаботулотоксина при лечении ИЦ/МБС. При этом явным было преимущество применения БТ перед ГДМП [45].
Общим для всех рекомендаций по использованию БТ является указание на необходимость предупреждения пациентов, подвергающихся такому лечению, об опасности хронической задержки мочи и необходимости применения периодической катетеризации мочевого пузыря.
Язва Гуннера рассматривается как показание к эндоскопической электрокоагуляции или трансуретральной резекции (ТУР) мочевого пузыря. Эффективность такого лечения достигает 90% [47]. Предложенные модификации эндоскопического лечения язв Гуннера, в частности, с применением YAG-лазера или комбинации электрокоагуляции с инъекциями триамцинолона показывают более высокую результативность лечения. Упоминается уменьшение вероятности последующего сморщивания мочевого пузыря из-за фиброзных изменений. Опасность такого осложнения ТУР мочевого пузыря при классической форме ИЦ/МБС кажется очевидной. Однако достоверных различий эффективности электрокоагуляции и ТУР мочевого пузыря при язве Гуннера сегодня не получено [48]. Не ясно, является ли сморщивание результатом эндоскопического вмешательства или исходом хронического воспалительного процесса? В связи с этим интересен опыт выполнения 117 повторных операций 44 пациентам [49]. Авторы выяснили, что повторная гидродисцензия с электрокоагуляцией язв Гуннера – высокоэффективное вмешательство, которое не приводит к снижению емкостных характеристик мочевого пузыря. Однако авторы применяли методику поверхностной электрокоагуляции язв Гуннера, а не ТУР мочевого пузыря.
ГДМП сегодня остается наиболее распространенным методом эндоскопической диагностики и лечения ИЦ/МБС. Традиционной считается методика с двукратным наполнением мочевого пузыря стерильным физиологическим раствором под давлением 80–100 см водн.ст. [24]. Некоторые исследователи находят, что продолжительность ГДМП в 2 мин оптимальна с точки зрения клинической эффективности, поскольку большая длительность процедуры представляется избыточной, меньшая – недостаточной [49].
По рекомендациям АUA, ГДМП следует выполнять под наркозом с давлением перфузионной жидкости 60–80 см водн.ст. и продолжительностью экспозиции не более 10 мин [26]. В работе ряда японских коллег при ГДМП рекомендуется давление в 80 см водн.ст. с наполнением мочевого пузыря до 800–1000 мл под спинномозговой анестезией [51]. J. Nordling et al. [52] предложили заполнять мочевой пузырь до объема, при котором поступление в него перфузионной жидкости остановится. Авторы уточняют, что экспозиция раствора должна составлять 3 мин, а повторное наполнение мочевого пузыря не должно происходить до его максимального объема. Обсуждается, что количество повторных наполнений мочевого пузыря не должно превышать 5 с тщательной оценкой эндоскопической картины мочевого пузыря при первом и последнем наполнениях [53]. T. Yamada et al. представили опыт успешного лечения ИЦ/МБС у 70% пациентов по результатам наблюдения в течение 3 мес. Авторы повторили ГДМП через сутки после первой процедуры, максимальная длительность которой составила 30 мин [54].
При ГДМП предпочительна общая и спинальная анестезия, но ряд авторов придерживаются мнения, согласно которому местная анестезия более безопасна и достаточна для визуализации гломеруляций и язв Гуннера [55].
Как правило, ГДМП приводит к временному облегчению состояния примерно 50% пациентов [56]. Данная процедура наиболее эффективна в составе комбинированной терапии, например, с приемом пентосан полисульфата [57]. Сообщения об осложнениях ГДМП носят эпизодический характер, что позволяет считать манипуляцию достаточно безопасной [58].
Таким образом, несмотря на то что ГДМП – широко признанная лечебно-диагностическая манипуляция при ИМБС, не существует единого технического протокола ее выполнения.
При ИЦ/МБС эффективность хронической сакральной или пудендеальной стимуляции оценивается в 71–80%, при этом параметры оценки эффективности значительно различаются в различных исследованиях. Этот вид лечения ИЦ/МБС пока не одобрен FDA, а в рекомендациях AUA указано, что он более эффективен в лечении учащения мочеиспускания и ургентности, нежели для купирования боли [41].
Перспективным направлением в лечении остается разработка технологий транспорта генов и белков, дефект которых обнаруживается в уротелии при ИЦ/МБС, в частности, методом электрофореза, а также с использованием липосомального транспорта, термочувствительных гидрогелей, биоразлагаемых полимеров и наночастиц. Стратегия повышения эффективности внутрипузырных инстилляций лекарственных веществ строится на повышении проницаемости уротелия, увеличении длительности действия препаратов, а также на улучшении их усвояемости стенкой мочевого пузыря [59].
Таким образом, малоинвазивные технологии в лечении ИЦ/МБС требуют дальнейшего изучения, ориентированного на повышение эффективности и безопасности. Важно отметить, что они в большей степени отвечают патогенетическому подходу к терапии ИЦ/МБС, так как в основном направлены на купирование уротелиальной дисфункции и симптоматическое улучшение. В то же время эти технологии должны применяться в составе комплексной терапии с препаратами системного действия, в частности с веществами, уменьшающими центральную и периферическую сенситизацию, влияющими на клеточный иммунитет.