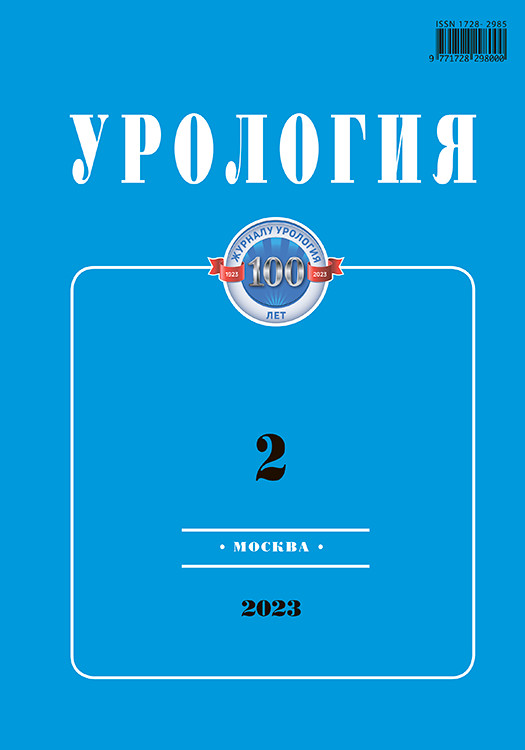Термин «кардиоренальный синдром» изначально использовался для описания нарушения функций изначально интактной почки в условиях сердечно-сосудистого заболевания. По сути, кардиоренальный синдром являлся одним из вариантов острой почечной недостаточности преренального типа. Однако в дальнейшем под этим термином стали подразумевать практически любое сочетание сердечной и почечной недостаточности. Согласно действующим отечественным Рекомендациям по лечению сердечной недостаточности (2018), кардиоренальный синдром – это «патофизиологическое расстройство сердца и почек, при котором острая или хроническая дисфункция одного органа ведет к острой или хронической дисфункции другого» [1]. В результате такого обобщения «кардиоренальный синдром» прекратил соответствовать самому понятию «синдром» как совокупности симптомов, объединенных общей этиологией и патогенезом. В 2010 г. был опубликован согласительный документ «Cardiorenal syndromes: Report from the consensus conference of the acutedialysis quality initiative». Суть этого соглашения сводится к признанию неоднородности кардиоренального синдрома и выделению пяти основных типов в зависимости от вида сердечной недостаточности (острая или хроническая) и причинно-следственной связи между нарушениями функции почек и сердечно-сосудистой системы (первичность/вторичность двух патологических состояний относительно друг друга) [2].
Именно такая классификация (С. Ronco, 2008), базирующаяся на патофизиологических особенностях различных вариантов изучаемого состояния, представляется наиболее обоснованной с точки зрения клинического применения.
I тип представляет собой самый яркий «классический» вариант, который, собственно, и привел к идее выделения сосуществования сердечной и почечной недостаточности в специальный синдром. Суть – в развитии дефицита фильтрационной функции почек у пациента с острой сердечной недостаточностью (например, вследствие обширного острого инфаркта миокарда). Клинически это проявляется резким снижением диуреза вплоть до полной анурии.
В основе патогенеза дефицита фильтрации лежит снижение кровотока по почечным артериям. При этом сама почка может быть изначально интактной, а в дебюте заболевания почечная недостаточность носит функциональный, полностью обратимый характер. При длительном снижении перфузии возможно развитие ишемических процессов в почечной паренхиме вплоть до формирования канальцевого некроза.
Отдельные авторы допускают возможность развития в рамках кардиоренального синдрома I типа не только ишемического, но и воспалительного (острый тубулоинтерстициальный нефрит), даже токсического (по типу канальцевого некроза) поражения почки [3].
Не вполне понятно, какая причинно-следственная связь может быть найдена между острым инфарктом миокарда, приведшим к кардиогенному шоку, и острым интерстициальным нефритом, который развился в острую фазу инфаркта.
Кардиоренальный синдром I типа встречается почти исключительно в отделениях реанимации и интенсивной терапии, особенно кардиологической направленности.
II тип наиболее актуален у пациентов урологического профиля. Этот вариант кардиоренального синдрома представляет собой сочетание хронической сердечной и хронической почечной недостаточности, связанной с разными нозологиями. В урологической практике одной из основных причин ХБП является вторичный пиелонефрит на фоне рецидивирующего нефролитиаза, стриктур мочевыводящих путей, аномалий развития органов мочеполовой системы. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и осложняющая ее хроническая сердечная недостаточность (ХСН) являются очень частыми сопутствующими заболеваниями у пациентов, обращающихся за урологической помощью.
Литературные данные по частоте встречаемости кардиоренального синдрома среди пациентов урологических клиник ограниченны. По результатам ранее проведенных исследований на базе Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) им. Бурденко, среди обратившихся за стационарной помощью по поводу нефролитиаза ишемическую болезнь сердца, осложненную сердечной недостаточностью имели 20,9%. Пациентов, которым может быть выставлен диагноз кардиоренального синдрома II типа, оказалось достаточно много – 12,3% от общего числа пациентов с нефролитиазом и сопутствующей ИБС [4]. Ценность исследования несколько ограничивает специфика выборки – приписной контингент военного госпиталя. Тем не менее общее представление о частоте встречаемости данного синдрома получено – это проблема наиболее тяжелых и осложненных пациентов, оперативное лечение которых затруднено в связи с высоким анестезиологическим риском.
В общетерапевтической практике ситуация отличается существенно, причем в худшую сторону. Крупные многоцентровые исследования, в частности, CONSENSUS, SOLVD, DIG, CIBIS-II, COMET, демонстрируют снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ), то есть ХПН, у 32–50% больных с ранее диагностированной ХСН. Е. В. Резник и соавт. отмечают, что у кардиологических пациентов со снижением фракции выброса снижение СКФ имеет место у 90,3% больных [5]. Столь высокая частота встречаемости дефицита фильтрации при наличии ХСН позволяет задаться вопросом: не является ли компенсированная (субклиническая) почечная недостаточность вообще проявлением ХСН? А «проявление» – это симптом, а не синдром.
Кардиоренальный синдром III типа представляет собой кардиологические осложнения у пациентов с исходной острой почечной недостаточностью (ОПН). Проявляться он может в нескольких вариантах. Самый яркий и клинически значимый из них – электролитные нарушения, сопровождающиеся нарушениями сердечного ритма. Гиперкалиемия быстро приводит к грубым жизнеугрожающим нарушениям сократительной функции миокарда. Поэтому компенсировать ее целесообразно еще до развития каких-либо кардиологических проявлений любым возможным способом, то есть не допуская развития кардиоренального синдрома III типа.
Другой вариант кардиоренального синдрома III типа представляет собой перегрузку жидкостью. Попытки лечения острой фазы ОПН посредством активной инфузионной терапии и стимуляции диуреза предъявляют высокие требования к состоянию сердечно-сосудистой системы. Если ОПН быстро не разрешается или если резервы миокарда были невелики, перегрузка объемом легко дает недостаточность кровообращения, что проявляется распространенными отеками – вначале периферическими, затем полостными, в худшем случае – отеком легких.
Третий вариант кардиоренального синдрома III типа, ко-торый практически не встречается в изолированном виде, – это токсическое повреждение миокарда. Уремические токсины могут снижать сократительную способность миокарда [6].
Токсический вариант кардиоренального синдрома – по сути дистрофия миокарда – должен представлять прогрессирующую недостаточность кровообращения, возможно, с нарушениями ритма, не связанными с острыми электролитными нарушениями. Однако ситуация, когда пациент с затянувшейся ОПН и избежавший вышеописанных рисков дожил до дистрофии миокарда, в современных условиях представляется с трудом. Это должна быть неолигурическая ОПН с плохой обратимостью при полном отсутствии возможности провести пациенту эфферентную детоксикацию.
Насколько актуален кардиоренальный синдром III типа в урологической практике? Ответ однозначно положительный, но с некоторым уточнением. Актуальны не уже развившийся синдром, а многочисленные в урологической практике ситуации, где он возможен и высоковероятен. Характерная для урологической клиники обструктивная (постренальная) ОПН, несмотря на хорошую обратимость и сравнительную простоту лечения, тем не менее способна давать грубые электролитные нарушения, потенциально угрожающие нарушениями сократительной функции миокарда.
Несвоевременность выполнения гемодиализа или гемофильтрации в условиях затянувшейся острой фазы ОПН сопровождается риском декомпенсации состояния сердечно-сосудистой системы, то есть кардиоренальным синдромом.
Кардиоренальный синдром IV типа представляет собой кардиологические осложнения у пациентов с исходно ХПН (хронической болезнью почек – ХБП). Некоторые авторы особо подчеркивают первичную роль почечной нозологии в названии «ренокардиальный синдром» [7].
Описано несколько вариантов поражения сердечно-сосудистой системы у пациентов нефрологического профиля: гипертрофия миокарда левого желудочка, систолическая и диастолическая дисфункция миокарда; при вторичном гиперпаратиреозе, особенно декомпенсированном, актуальной становится эктопическая кальцификация, в том числе клапанных структур сердца и коронарных артерий [7].
В настоящее время всесторонне доказано, что ХБП выступает в качестве независимого и мощного фактора, увеличивающего смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. По данным разных источников – от 10 до 20 раз. Более половины (50%) пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда, находящихся на заместительной почечной терапии, умирают в течение 2 лет, в то время как в общей популяции десятилетняя выживаемость аналогичных больных – 75% [3, 6, 7].
Для урологической практики кардиоренальный синдром IV типа малоактуален. Урологи имеют дело с пациентами, страдающими компенсированной почечной недостаточностью (ХБП II–IV ст.), которая по определению не должна вызывать грубые, клинически значимые дистрофические поражения внутренних органов, в том числе и сердечно-сосудистой системы. Оказание помощи пациентам с терминальной декомпенсированной почечной недостаточностью (ХБП V ст.) относится к компетенции нефрологии и трансплантологии.
Кардиоренальный синдром V типа самый неопределенный и загадочный. Согласно официальному определению, это сочетанное поражение сердца и почек в рамках одной нозологии. В качестве примера традиционно приводится сепсис. Однако при нем одновременное или последовательное появление острой сердечной и острой почечной недостаточности в реальной практике отделений интенсивной терапии обычно трактуется как синдром полиорганной недостаточности.
Вероятно, самым ярким и удачным примером вовлечения в патологический процесс сердца и почек является в рамках одной нозологии амилоидоз, как первичный наследственный (периодическая болезнь), так и вторичный (как осложнение ревматоидного артрита, муковисцидоза, миеломной болезни). Амилоидоз почек и относительно редко встречающийся амилоидоз сердца имеют свою довольно специфическую клиническую картину, бесспорно, отягощая течение друг друга [8].
С точки зрения урологии особого внимания заслуживает метаболический синдром, в основе патогенеза которого лежит уменьшение чувствительности периферических тканей к инсулину со снижением толерантности к глюкозе.
К сегодняшнему дню проведены исследования, доказавшие наличие причинно-следственной связи между нарушениями углеводного обмена, избыточным весом, повышенным риском нефролитиаза и развитием дефицита фильтрационной функции почек, по сути – ХБП. Таким образом, появляется возможность объединить в одну нозологию различные варианты подагрической нефропатии, закономерно приводящей к прогресструющей ХБП, с ИБС и хронической сердечной недостаточностью [9].
По всей видимости, именно этот пример кардиоренального синдрома V типа наиболее часто встречается, следовательно, наиболее актуален в реальной практике как урологов, так и кардиологов.
Лечение кардиоренального синдрома
Появление у пациента кардиологического профиля почечной недостаточности налагает существенные ограничения на выбор лекарственной терапии. В частности, при СКФ<44 мл/мин нежелательно применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и сартанов, являющихся препаратами выбора для лечения сердечной недостаточности у пациентов с сохранной почечной функцией [15]. При тяжелой почечной недостаточности (СКФ<30 мл/мин) тиазиды утрачивают свой терапевтический эффект, а применение калийсберегающих диуретиков становится небезопасным ввиду риска гиперкалиемии. Таким образом, из всех мочегонных средств остаются только петлевые и осмотические диуретики.
При кардиоренальном синдроме I типа препаратами выбора для патогенетической терапии следует считать вазопрессоры и средства инотропной поддержки. При прогрессировании ОПН, развитии отека легких появляются показания к экстренному сеансу гемодиализа.
При кардиоренальном синдроме II типа наиболее сложной задачей является совместить схемы лекарственной терапии обеих нозологий – почечной и сердечно-сосудистой. Простое сложение двух схем обычно неосуществимо вследствие наличия взаимоисключающих требований. Пример: у пациента нефролитиаз и ИБС c сердечной недостаточностью нефролитиаз предполагает водную нагрузку для снижения концентрации мочи, сердечная недостаточность вынуждает ограничивать жидкость, чтобы снизить нагрузку на миокард. Однако основные ограничения на медикаментозную терапию налагает именно почечная недостаточность. Препараты, имеющие почечный путь выведения, требуют пересчета дозировки с учетом фильтрационной функции почек. Однако первая доза всегда среднетерапевтическая – нагрузочная. Лекарственные средства, выводящиеся печенью, могут безопасно назначаться в полной дозе.
Очень сложен вопрос относительно возможности хирургического вмешательства на почках и мочевывыводящих путях при кардиоренальном синдроме II типа. При наличии компенсированной ХСН (I ст.) и компенсированной ХПН (ХБП 2–3а ст.) плановое оперативное лечение обычно возможно. При этом что предпочесть: максимально активную хирургическую тактику с большей травмой и возможностью одноэтапного лечения или минимально травматичную методику, но требующую несколько этапов? На примере нефролитиаза: одномоментно выполнять перкутанную нефролитолапаксию или менее травматичную дистанционную литотрипсию, но за несколько этапов? Однозначного ответа на этот вопрос в литературе не нашлось. Собственные исследования ведутся.
Кардиоренальный синдром III типа, по сути, есть следствие неадекватного ведения больного ОПН. При явном отсутствии признаков разрешения ОПН на протяжении 2–3 сут., безуспешности попыток медикаментозной коррекции электролитных нарушений или стимуляции диуреза следует, не дожидаясь жизнеугрожающей аритмии или отека легких, выполнять пациенту экстренный сеанс гемодиализа.
Современные методики эфферентной детоксикации способны свести риск кардиоренального синдрома III типа практически к нулю (разумеется, при условии, что исходно миокард был интактен и пациент не имел экзогенной интоксикации кардиотоксическими веществами).
Кардиоренальный синдром IV типа, наоборот, в целом малокурабелен. У пациентов, получающих заместительную почечную терапию гемодиализом, спектр разрешенных к применению препаратов расширяется по сравнению с додиализной стадией ХПН. В частности, можно применять даже ингибиторы АПФ и сартаны, а также другие группы кардиотропных средств. Препараты эффект оказывают, но в целом выживаемость пациентов кардиологического профиля на диализе в разы ниже по сравнению с общей популяцией [5]. Медикаментозная коррекция нарушений фосфорно-кальциевого обмена (активные метаболиты витамина D – альфакальцидол, кальцитрол, а также кальцимиметики – цинакальцет) способны лишь затормозить прогрессирующую кальцификацию структур сердца, однако уже развившиеся изменения, в том числе и клапанные, необратимы.
Кардиоренальный синдром V типа предполагает возможность этиотропной терапии основного заболевания, приведшего как к ХПН, так и к ХСН. Однако нужно учитывать, что при развитии функционального дефекта пораженного органа этиотропная терапии в большинстве случаев существенно теряет в эффективности, уступая лечению патогенетическому, направленному на компенсацию дефекта.
В отношении актуального для современной клинической практики метаболического синдрома таким препаратом является метформин, снижающий инсулинорезистентность периферических тканей и угнетающий глюконеогенез в печени. Подавление синтеза глюкозы приводит к избытку лактата, который затем выводится почками. Неспособность поврежденной почечной паренхимы компенсировать избыток молочной кислоты угрожает лактат-ацидозом. Дополнительным негативным фактором является особенность фармакокинетики самого метформина, который не метаболизируется и имеет полностью почечный путь выведения. Следовательно, метформин нежелателен при почечной недостаточности, особенно если она сопровождается другими состояниями, склонными вызывать ацидоз, в частности, сердечной недостаточностью.
Если же не принимать во внимание возможность этиотропной терапии (весьма призрачную, на наш взгляд), то ведение пациента с кардиоренальным синдромом V типа не будет отличаться от II типа.
В литературе кардиоренальный синдром рассмотрен достаточно подробно, но несколько однобоко – в основном с эпидемиологических позиций. Например, Б. Г. Искендеров в своей монографии, посвященной этому синдрому, указывает на высокую частоту выявления почечной недостаточности (ХБП II–V ст.) при фоновой сердечной недостаточности – 45,0–63,6 [7]. Ж. Кобалава и соавт. отмечают, что «сочетание любых двух факторов сердечно-сосудистого риска приводит к вероятности развития ХБП со снижением СКФ<60 мл/мин, в 3,7 раза большей, чем при сохранной функции почек» [11].
Однако, с нашей точки зрения, суть кардиоренального синдрома состоит отнюдь не в рисках. Гораздо большее значение имеют особенности клинического течения входящих в его состав нозологий. Принципиальная особенность состоит в эффекте потенцирования – в существенно большей скорости прогрессирования как почечной, так и сердечной недостаточности по сравнению с изолированным течением этих патологических состояний.
Эта гипотеза была проверена в ходе исследования, выполненного на базе ЦВКГ им. Бурденко. Прогрессирование дефицита фильтрации при наличии даже начальной сердечной недостаточности происходило на 25% быстрее, чем у пациента с фоновой ИБС, но без функционального дефекта [4].
Идея взаимного потенцирования вскользь прослеживается практически во всех публикациях по данному вопросу, однако практически нигде она не выражена открытым текстом, теряясь за рисками и частотами осложнений. По крайней мере конкретных цифр (пусть даже по другим нефрологическим/кардиологическим нозологиям), необходимых для критической оценки полученного результата, пока найти не удалось.