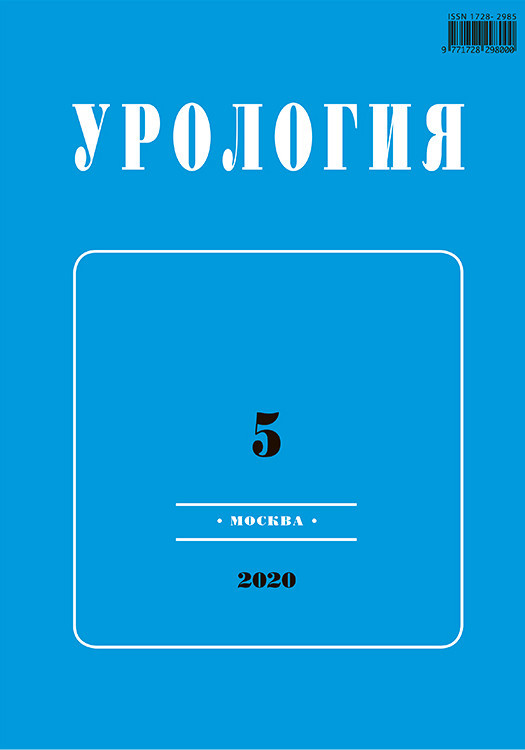Широкое и бесконтрольное применение антибиотиков не только в медицине, но и в сельском хозяйстве, животноводстве, пищевой промышленности привело к распространению мультирезистентных штаммов микроорганизмов с генами, кодирующими бактериальную устойчивость к наиболее распространенным антибиотикам, включая β-лактамы, фторхинолоны, аминогликозиды, хлорамфениколы, тетрациклины, что представляет серьезную проблему для современного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний вообще и урологической инфекции в частности.
Предупреждения о возвращении к «эпохе до антибиотиков» звучат все громче, и такие регулирующие организации, как ВОЗ, ООН, Центр по контролю заболеваний (CDC), объявили устойчивость к антибиотикам угрозой глобальному здоровью [1, 2].
Ограниченный арсенал эффективных антибактериальных препаратов, развитие дисбиозов кишечника, снижение его колонизационной резистентности при массивной антибактериальной терапии, рост числа нежелательных побочных действий антибиотиков вынуждают искать альтернативные способы лечения инфекционно-воспалительных заболеваний.
Преобладание условно-патогенных бактерий в развитии урологической инфекции создает проблемы в подборе лечебных препаратов, особенно пациентам с рецидивирующими инфекционными заболеваниями почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей.
В поисках альтернативных стратегий профилактики и контроля бактериальной инфекции одно из наиболее популярных предложений включает фаговая терапия. Ее сторонники выделяют несколько основных преимуществ фагов перед антибиотиками: специфичность для хозяина, саморазмножение, деградация биопленки и низкая токсичность для человека [3, 4].
К истории вопроса о бактериофагах
Почти за десятилетие до открытия пенициллина, в 1919 г., в качестве средства против патогенов, таких как Shigella dysenteriae, использовали бактериофаги [5]. Фаги, коротко от бактериофагов, являются бактериоспецифичными вирусами. На самом деле природа их существования была темой раздора, пока они не были визуализированы в 1940-х гг. после изобретения электронной микроскопии [6]. Споры вокруг эффективности фаговой терапии были связаны с плохой документацией о применении и переменным успехом. Осложнения фаговой терапии были связаны с тем, что на момент открытия фагов о них и о патогенезе инфекционных заболеваний было мало что известно.
Современные представления о бактериофагах и механизме их действия
Бактериофаги – это вирусы, паразитирующие на бактериях. Каждая фаговая частица содержит геном, представленный молекулой ДНК или РНК, заключенный в белковую или липопротеиновую оболочку (капсид). Они встречаются повсеместно: в сточных водах, почве, глубоких термальных источниках, природных водоемах, морях и океанах [7].
Фаги не способны воспроизводиться независимо (т.е. неживые), и их выживание зависит от бактериального хозяина. Бактериофаги можно разделить на две группы по типу жизненного цикла: вирулентные и умеренные. Фаги обычно связываются со специфическими рецепторами на поверхности бактериальных клеток, вводят свой генетический материал в клетку-хозяина и затем либо интегрируют этот материал в бактериальный геном (так называемые умеренные фаги), или захватывают механизм бактериальной репликации для получения следующего поколения фагового потомства (так называемые литические фаги). После биосинтеза компонентов и их самосборки в бактериальной клетке накапливается от нескольких до более 1000 вирусных частиц в зависимости от факторов окружающей среды. Под действием фагового лизоцима и внутриклеточного осмотического давления происходит гидролиз клеточной стенки бактерии и высвобождение новых фагов для дальнейшего инфицирования новых бактерий и инициирования литического цикла. [8, 9]. Один литический цикл (от момента адсорбции фагов до их выхода из клетки) продолжается 30–40 мин. Процесс бактериофагии проходит несколько циклов, пока не будут лизированы все чувствительные к данному фагу бактерии.
Умеренные фаги лизируют не все клетки в популяции, с частью из них они вступают в симбиоз, в результате чего геном фага встраивается в хромосому бактерии. В таком случае геном фага называют профаг. Профаг, ставший частью хромосомы клетки, при ее размножении реплицируется синхронно с геномом бактерии, не вызывая ее лизиса, и передается по наследству от клетки к клетке неограниченному числу потомков. Биологическое явление симбиоза микробной клетки с умеренным фагом называется лизогенией [10, 11]. Умеренные фаги, захватывая фрагменты ДНК от одного хозяина и перенося другому («вирусный секс»), могут быстро распространять генетический материал между бактериями-хозяевами, обеспечивая бактериальное разнообразие. Действуя как «мобильный банк генов», фаги помогают хозяевам быстро приспосабливаться к изменениям питания, высоким температурам, давлению и химическому воздействию. Эти гены могут быть полезными для бактериального хозяина и могут кодировать факторы вирулентности (например, дифтерийный токсин, токсин шига и ботулинический токсин), метаболические гены и гены устойчивости к антибиотикам (например, β-лактамазы) [12–14].
Большинство фагов заразны только для тех бактерий, которые несут свой комплементарный рецептор, что в свою очередь определяет диапазон литического фага [15].
Лечебные препараты бактериофагов получают в результате селекции высоковирулентных фагов, обладающих широким спектром антибактериальной активности. Препараты не содержат умеренных фагов, обладающих способностью к трансдукции или лизогенной конверсии [16]. При культивировании фагов на бактериальных клетках штаммов-продуцентов в процессе нескольких циклов внутриклеточного размножения происходит накопление биомассы бактериофагов, которую затем очищают, последовательно удаляя лизированные бактериальные клетки, бактериальные антигены и токсины. Степень очистки равна 98–99% [17, 18].
Для лечения литические фаги объединяют в препараты, фаговые коктейли, которые состоят из нескольких фагов, доказавших свою эффективность in vitro против патогена-мишени.
Бактерии сформировали многочисленные механизмы сопротивления инфекции литическим фагам, и фаги имеют не менее впечатляющее разнообразие механизмов для нарушения этой устойчивости. Устойчивость бактерий к фагам включает модификацию рецепторов фаговой поверхности на бактериальной клетке, интеграцию генома фага в геном бактерий и потерю генов, специфичных для репликации или сборки фага [19]. Механизмы резистентности к фагам могут быть классифицированы как предотвращение адсорбции фага, предотвращение проникновения фаговой ДНК, разрезание фаговых нуклеиновых кислот и прерванный инфекционный процесс [20, 21]. Самые распространенные формы фаговой устойчивости – профилактика фаговой адсорбции точечными мутациями и/или изменениями в экспрессии генов, кодирующих рецепторы, с которыми связываются фаги [21].
Интересно, что фаговая устойчивость через эти механизмы может быстро появиться, но часто идет с потерей бактериальной вирулентности [21–23]. Молекулы бактериальной поверхности, вовлеченные во взаимодействие фаг–бактерия, часто состоят из поверхностных белков, поверхностных гликанов и гликоконъюгатов, таких как капсулы и липополисахариды. Изменение в этих компонентах может приводить к снижению вирулентности и обновленной чувствительности к иммунитету хозяина [21, 22].
Помимо изменения поверхностных рецепторов резистентность может также быть достигнута за счет выработки внеклеточного матрикса, важной составляющей бактериальной биопленки, которая обеспечивает физический барьер между фагами и их рецепторами. Некоторые фаги эволюционировали для распознавания полимеров, содержащих внеклеточный матрикс, и разрушения их. Другие бактерии предотвращают проникновение фаговой ДНК с помощью белков.
В последнее время много исследований посвящено механизмам сопротивления, которые мешают введению фаговой ДНК в бактерии. Важными механизмами сопротивления являются системы рестрикции модификации, разрушающие фаговую ДНК, в то время как бактериальная ДНК-хозяина защищена [24].
Хотя молекулярные механизмы до сих пор неясны, обнаружена система CRISPR/Cas, функционирующая как бактериальная приобретенная иммунная система, которая запоминает вирусный генетический материал и предотвращает заражение в будущем [20]. Система исключения фагов (BREX) и варианты прокариот Argonaute были обнаружены совсем недавно, они действуют как барьер для поглощения и репликации чужеродных ДНК [25, 26]. Последним средством механизмов бактериальной устойчивости является абортная инфекционная система. Эта система ведет к смерти инфицированных бактерий-хозяев, тем самым предотвращая размножение фагов и инфицирование других бактерий [20].
Важное следствие непрерывной «гонки вооружений» между фагами и бактериями – это появление у фагов стратегий противодействия или обхода этих механизмов устойчивости [27]. Например, фаги могут изменить ход их жизненного цикла (путем корректировки размера взрыва-урожая, время лизиса и т.д.) [28] и кодировать ингибиторы белка системы CRISPR-Cas (т.е. анти-CRISPRs) [29]. Кроме того, могут возникать мутации в белках, связывающих фаговые рецепторы, и фаги могут рекомбинироваться (соединяться) с другими вирусами [28].
Появление фагоустойчивых штаммов является естественным следствием совместной длительной эволюции бактерий и фагов. Перед назначением фаговой терапии необходимо принимать меры для преодоления устойчивости. Должны применяться фаговые коктейли, состоящие из нескольких фаговых препаратов, охватывающие широкий диапазон хозяев-бактерий [23].
Важным условием, обеспечивающим эффективность лечения препаратами бактериофагов, является определение чувствительности к ним возбудителя. Обнаружение бактериофага на плотных питательных средах определяется методами Отто и Грация, количественное содержание фагов (титр фага) – по методу Аппельмана [30].
История фаготерапии
Несмотря на то что впервые характерную зону лизиса, связанную с фаговой инфекцией, описал F. Twort в 1915 г., именно F. d’Herelle определил источник этого явления, отнес его к бактериальным вирусам и ввел термин «бактериофаг» (пожиратель бактерий). F. d’Herelle впервые успешно использовал фаги в 1919 г. в Париже для лечения бактериальной дизентерии у 4 детей [5, 31]. К сожалению, в те годы исследования плохо контролировались и регистрировались, поэтому возникает много вопросов по эффективности лечения, однако F. d’Herelle продолжил пионерскую фаговую терапию при лечении дизентерии, холеры и бубонной чумы с помощью ряда фаговых терапевтических центров и коммерческих фаговых производственных установок по всей Европе и Индии. Исследование 1931 г. в Индии включило когорту из 118 пациентов контрольной группы и 73 опытной группы, которым назначали фаги.
d ‘Herelle отметил снижение смертности на 90% в опытной группе (5 летальных исходов) по сравнению с контрольной группой (74 смерти) [32].
Однако фаговая терапия не нашла тогда широкого распространения, так как было допущено много ошибок из-за плохого понимания биологической природы фагов. Лечебные средства готовились на основе умеренных фагов; фаготерапия инфекций, вызванных несколькими возбудителями, проводилась монопрепаратами [33]. Недостаточная очистка и неправильное хранение фагов обусловливали низкие титры активного фага, загрязнение бактериальными антигенами. При выборе фага также не учитывали чувствительность к бактерии-мишени. Кроме того, была неизвестна роль врожденного иммунного ответа в удалении активного фага и снижении эффективности фаговой терапии [34].
Появление антибиотиков в середине XX в. наряду с лучшим пониманием природы инфекционных заболеваний произвело революцию в здравоохранении и резко улучшило как качество, так и продолжительность жизни в промышленно развитых странах [6]. В результате фаговая терапия не нашла широкого применения в западной медицине; исключением были бывший Советский Союз и Восточная Европа, где фаговую терапию продолжали использовать для лечения различных инфекционно-воспалительных заболеваний и был создан научный институт по изучению фагов в Тбилиси, а также промышленный выпуск фаговых препаратов в Уфе, Нижнем Новгороде и Перми [35].
Антибиотики, ознаменовав новую эру в медицине, быстро стали незаменимым медицинским инструментом, однако применение около 100–200 тыс. антибиотиков, используемых во всем мире ежегодно не только в медицине, но и в сельском хозяйстве и животноводстве [36, 37], привело к выработке у микроорганизмов различных механизмов защиты от антибиотиков. По оценкам CDC, устойчивые к антибиотикам инфекции приводят по меньшей мере к 23 тыс. смертей в год [38]. Согласно обзору Правительства Соединенного Королевства об устойчивости к противомикробным препаратам за 2016 г., в мире ежегодно умирают 700 тыс. человек от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными возбудителями с прогнозируемыми затратами на диагностику, лечение и реабилитацию больных в 100 трлн долл. США и числом погибших до 10 млн к 2050 г. [36]. В США только от инфекций, вызванных метициллинрезистентными стафилококками (MRSA), регистрируют больше смертей, чем от ВИЧ/СПИД и туберкулеза вместе взятых [37]. Начиная с 2000 г. в США и во всем мире стала увеличиваться заболеваемость госпитальными инфекциями, вызванными K. pneumoniae, устойчивой к карбапенемам («последний резерв»), из-за отсутствия вариантов лечения эти инфекции связаны с 40–50%-ной смертностью [39].
Из-за скорости, с которой бактерии формируют устойчивость к антибиотикам, резко снизился коммерческий интерес фармкомпаний к исследованиям и разработке новых соединений. В 1983–1987 гг. Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрено 16 новых фармацевтических антибиотиков для использования в США, однако в 2010–2016 гг. их уже было только 6 [40].
Благодаря разработкам молекулярно-биологических методов диагностики, способных изучать фаги, таких как секвенирование следующего поколения (NGS) и электронная микроскопия, фаговая биология только сейчас достигает зрелости. Эти технологические достижения привели к возрождению исследований в области фаговой терапии, о чем свидетельствует волна недавних клинических исследований на людях и исследований на животных.
Если в 1920–1930-х гг. фаги применяли в основном при бактериемии, кишечных и кожных инфекциях, то в 1970–1990-х терапия фагами стала рассматриваться как дополнительная и даже альтернативная для лечения и профилактики многих инфекционных заболеваний, осложнений у пациентов. Помимо клинического применения препаратов бактериофагов при кишечной и кожной инфекциях, что оправданно возможностями местного и перорального применения бактериофагов, появились публикации о фаготерапии легочной и мочевой инфекций, инфекции, уха и т.д., чему способствовали исследования кинетики фагов в организме человека.
В России углубленным изучением бактериофагов занимается АО «НПО "Микроген"» (входит в холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) – единственный в России производитель лечебных препаратов бактериофагов. В недавно созданном Биологическом ресурсном центре проводятся исследования свойств бактериофагов, их селекция для того, чтобы расширить области применения бактериофагов и разработать новые препараты на их основе. В Биологическом ресурсном центре хранятся микробные производственные коллекции, собранные на территории России, на данный момент в них свыше 10 тыс. штаммов бактериофагов.
Исследования кинетики фагов в организме человека
Исследования кинетики фагов выявили, что после однократного перорального (аэрозольного, раневого) приема 20–30 мл препарата бактериофага их определяли в крови через 1 ч и в моче через 2 ч. Высокое содержание фаговых частиц в образцах мочи, особенно в отдаленном периоде – спустя 3–6 сут. после приема препарата, свидетельствует о поддержании высокой концентрации фагов за счет их размножения на гомологичных фагочувствительных бактериях. В отсутствие гомологичного возбудителя у больных и у здоровых людей массивный выход синегнойных или коли-фагов с мочой происходил в течение первых 6–8 ч после приема препарата, затем следовало постепенное снижение концентрации вплоть до полного исчезновения фагов в последующие 3–6 сут. Низкое содержание фагов в образцах свидетельствовало об отсутствии гомологичного возбудителя в организме [18,41]. Наличие фагов в крови, моче и околоплодных водах через 1 ч после перорального приема Секстафага и выделение их до 15 ч подтвердили другие исследователи [42]. При ректальном введении суппозитория Секстафаг однократно фаги выделяли с мочой через 3–5 ч, выделение наблюдали в течение 31 ч [43] или через 2–3 ч при массивном выделении фагов с мочой через 10–14 ч и до 1–5 сут. [44]. После перорального приема фаговые частицы обнаруживали через 1 ч в крови, бронхиальном содержимом, спинномозговой жидкости, поверхности ожоговых ран и в моче. Длительность пребывания бактериофагов в организме после однократного приема составила 7 сут. и более [45].
Начиная с 1970-х и до 2000-х гг. публикации по фаготерапии в основном были из России, Грузии и Польши.
В лечении 13 больных с распространенным гнойным перитонитом при многократных санациях брюшной полости были использованы специфические фаги, чувствительные к выделенным микроорганизмам из перитонеального экссудата, в частности P. aeruginosa, Enterococcus faecium, E. coli, E. bovis [46]. Авторы считают, что использование уже имеющихся фагов, а также создание новых адаптированных фаговых препаратов для лечения распространенного гнойного перитонита и с целью профилактики инфицирования внутрибольничными штаммами микроорганизмов весьма перспективно. И. Н. Хайруллин и соавт. [47] изучали эффективность применения поливалентного бактериофага для профилактики раневой инфекции после плановых хирургических операций 27 больным через 5 мин после хирургической обработки раны. По данным авторов, сроки заживления ран сокращались до 2–2,5 раза и в среднем составляли 4–7 сут.
Получены положительные результаты применения фагов у 94 больных с острыми термическими поражениями. Комбинированный бактериофаг назначали изолированно (при площади ожога менее 20%) или совместно с антибиотиками (при площади поражения более 20%); контрольная группа получала стандартную местную и антибактериальную терапию. На фоне бактериофаготерапии раньше купировались гнойно-септические осложнения, нормализовывалась температура тела, быстрее проходило очищение ран и снижение бактериемии. Число пациентов с положительными гемокультурами снизилось с 55 до 36,8%. В группе больных, пролеченных бактериофагами, летальность составила 3,7%, в то время как в контрольной группе – 15,1% [45].
В 1970-х гг. оценивали терапевтическую эффективность стафилококкового фага против различных инфекционных заболеваний, в том числе септического артрита.
В одном из этих исследований у 120 пациентов независимо от терапии (только антибиотики, фаговая моно- или комбинированная терапия) отмечали 100%-ное заживление [48, 49]. Результаты данного исследования трудно интерпретировать, так как монотерапия фагом проведена только девяти пациентам, а в группе комбинированной терапии на результат скорее всего повлияла антибиотикотерапия.
S. Slopek et al. [50] представили обзор 550 случаев фаготерапии, проведенной в 1981–1986 гг., с 90%-ной эффективностью лечения пациентов с пиогенным артритом и миозитом, остеомиелитом длинных костей и остеитом длинных костей после перелома. Фаги применяли как местно, так и перорально.
В работе из Франции приводится анализ лечения семи пациентов с инфекцией после ортопедических операций, при этом при спинальной инфекции наблюдалась эрадикация одного из возбудителей (S. aureus), а P. aeruginosa сохранялась. Неудачным лечение оказалось для одного пациента [51].
Описан случай успешного применения бактериофагов пациенткой с почечным трансплантатом с флегмоной забрюшинного пространства, осложнившейся флегмоной бедра и абсцессом ягодицы и сепсисом. Из крови выделена мультирезистентная Klebsiella pneumoniae, чувствительная только к цефотаксиму, интестифагу и поливалентному пиобактериофагу. После комплексной терапии, включившей экстракорпоральные методы лечения, антибактериальную и фаготерапию (интести-фаг), уже на 2–3-й день местного применения фага отмечена положительная динамика состояния раны: уменьшение раневого отделяемого, прекращение прогрессирования некроза, появление грануляций. Пациентка выписана с функционирующим почечным трансплантатом [52].
Одной из первых для лечения госпитальной урологической инфекции в 1990-х гг. препараты бактериофагов применила Т. С. Перепанова с коллегами [53]. С целью повышения фагочувствительности бактерий авторы отправляли возбудители, выделенные от урологических пациентов, на фаговое производство (Уфа), где проводили подбор («адаптацию») коммерческих препаратов бактериофагов к выделенным уропатогенам, что положительно отразилось на клинических результатах. По данным авторов, удовлетворительный результат лечения отмечен уже на 2–4-й день применения бактериофагов. Авторы сравнили результаты лечения разных групп пациентов с мочевой инфекцией: с дренажами и без дренажей; леченных только фагами и фагами вместе с антибиотиками. Снижение микробного числа в моче пациентов с дренажами и катетерами, леченными только фагами, было достигнуто в 73–77,7% случаев, в то время как фаготерапия больных без дренажей была эффективной в 85,3% наблюдений, что сопоставимо с результатами лечения ципрофлоксацином – 88%. Клинико-бактериологическая эффективность колибациллярной, протейной и стафилококковой инфекций отмечена на уровне 86–93%. При синегнойной этиологии мочевой инфекции бактериологический эффект достигнут в 61% наблюдений, энтеробактерной — в 77%.
С.Н. Зоркин и соавт. [54] изучали эффективность использования бактериофагов у детей с осложненной урологической инфекцией на фоне различных аномалий развития мочевыводящих путей. Авторы сравнивали четыре группы пациентов в зависимости от применяемой терапии: антибиотики или антибиотики с фагами в послеоперационном периоде или только при лечении урологической инфекции. Хотя нельзя признать эту методику безопасной, но авторы проводили местное орошение чашечно-лоханочной полости, полости мочевого пузыря или просвета мочеточника 5–10 мл соответствующего бактериофага с пережатием дренажа на 15–20 мин в течение последующих 5–7 дней, после чего дренаж удаляли. Через 6–12 мес. после нормализации уродинамики отмечено, что сочетание антибиотика и бактериофага показало большую клинико-бактериологическую эффективность.
Интересен опыт применения адаптированных к госпитальной микрофлоре бактериофагов наряду с обычными противоэпидемическими мероприятиями в отделении реанимации новорожденных в период осложнения эпидемиологической ситуации. В профилактических целях синегнойный фаг применяли в отношении всех новорожденных через рот, а также в увлажнительных камерах аппаратов искусственной вентиляции и путем распыления во внешней среде палаты. Результатом этих мероприятий стало снижение заболеваемости внутрибольничной инфекцией, вызванной P. aeruginosa, в 11 раз [55].
Одной из причин неудач применения бактериофагов может быть формирование биопленок – сообщества бактериальных клеток, заключенных в собственную биополимеразную матрицу, адгезированную на поверхности субстрата [56]. До 60% рецидивирующей урологической инфекции обусловлено формированием биопленок.
Э. Р. Толордава [57] изучала влияние препаратов бактериофагов на биопленки, образованные на уретральных катетерах или в/на камнях почек in vivo (n=203) после выполнения оперативного вмешательства, а также на биопленки in vitro, сформированные клиническими изолятами, выделенными из мочи и мочевых камней, и референсными штаммами P. aeruginosa PA103 и PAO.
Выявлено, что применение препарата бактериофага в низких титрах провоцирует формирование биопленки, так же как и фаговый препарат, к которому исследуемый возбудитель не чувствителен. Целесообразно использование фагов с учетом чувствительности и высоким титром фаговых частиц в препарате (не менее 10-7 КОЕ/мл).
В последнее время с ростом антимикробной резистентности фаговая терапия стала завоевывать интерес в Западной Европе [58–61]. Несмотря на то что сообщения описывали лишь по 1 пациенту с протезной инфекцией и успешные результаты были достигнуты при сочетанной терапии фагами и антибиотиками, в них были описаны различные особенности лечения (например, пути введения, нанесенный фаговый коктейль) [60]. Показана эффективность применения фагов при лечении отита синегнойной этиологии [62], в офтальмологии (глазные капли с фагами), при абсцессе роговицы глаза и интестициальном кератите [63]. Также описано успешное лечение бактериофагами хронических дерматозов стафилококковой этиологии эндолизином Staphefekt фага [64] и синегнойной септицемии [65].
«Золотым» стандартом клинических испытаний являются рандомизированные клинические исследования (РКИ). Пока опубликовано только одно РКИ (PhagoBurn) с использованием фагового коктейля, выполненного в соответствии с руководящими принципами GMP («хорошая производственная практика») и GCP («хорошая клиническая практика»), при инфекции ожоговых ран, вызванных E. coli и P. aeruginosa [66]. Исследование PhagoBurn проводилось в центрах ожоговых ран во Франции и Бельгии. Это исследование подчеркивает важность фаговой стабильности и состава, так как после изготовления препаратов фаговые титры снизились и пациенты в опытной группе получали препараты с более низкими титрами, чем предполагалось. Несмотря на медленный клинический эффект, в группе фаготерапии по сравнению с группой, получавшей стандартное лечение (сульфадиазин, серебряный крем), отмечали снижение бактериальной нагрузки и меньшее количество побочных эффектов [66].
В последнее время предпринимается все больше усилий для того, чтобы представить результаты клинических исследований с использованием фаговой терапии в соответствии с рекомендациями GCP при различных инфекционных состояниях (например, хронический отит, инфицированные ожоговые раны, диабетические язвы стопы, костные и суставные инфекции, хронически инфицированный муковисцидоз и т.д.) [67].
Наш опыт применения препарата пиобактериофага поливантного очищенного с целью профилактики и лечения инфекционно-воспалительных осложнений после перкутанной нефролитотрипсии [68] показал, что бактериофаги могут применяться как альтернатива антибактериальной профилактики, что имеет большое значение в условиях роста антибиотикорезистентности. Предварительно был проведен подбор (адаптация) коммерческих препаратов пиобактриофага поливалентного к 100 штаммам E. coli, выделенных от урологических пациентов. Литическая активность пиобактериофага была повышена с 72 до 92%. В исследование включены 90 пациентов с большими и коралловидными камнями почек, которым периоперационную профилактику за 2 ч до операции выполняли либо антибиотиками, либо бактериофагами (одна группа пациентов получала ципрофлоксацин, другая – цефотаксим/сульбактам, третья группа пациентов – пиобактериофаг поливалентный очищенный (смесь очищенных фильтратов фаголизатов бактерий: Staphylococcus, Streptococcus, Proteus, P. aeruginosa, K. pneumoniae, E. coli). Показано, что развитие синдрома системной воспалительной реакции после операции не зависело от применяемой методики и препарата (26,6%; 20 и 20%). Ни в одном случае не развился острый пиелонефрит и сепсис. Пиобактериофаг поливалентный очищенный может применяться как альтернатива антибактериальной профилактики перед эндоскопическими операциями. Для улучшения антимикробного действия необходим постоянный мониторинг чувствительности микроорганизмов к препаратам бактериофагов и постоянный подбор (обновление) препаратов бактериофагов к возбудителям конкретного стационара или пациента.
Проблемы фаготерапии
В исследованиях чаще рассматривается мономикробная, а не микс-инфекция. Несмотря на то что во многих работах показана высокая эффективность лечения инфекции фагами, эти исследования не соответствуют современным требованиям доказательной медицины.
В зарубежной литературе единичные работы посвящены описанию очень ограниченного числа пациентов.
Фаги по сути представляют собой белковые структуры, что подразумевает их восприимчивость ко всем изменениям окружающей среды, которые денатурируют белок, таким как кислый рН, высокие температуры, воздействие органических растворителей (например, дезинфицирующих средств) и механические стрессы [69–71].
Очищение фагов иммунной системой может влиять на эффективность фаговой терапии [21]. Так как фаги встречаются повсеместно и ежедневно (например, на различных продуктах), низкие титры фагоспецифических антител можно часто встретить у пациентов, но во время фаготерапии титры могут вырасти. Индукция врожденного иммунитета, который очищает фаги через фагоцитоз (т.е. ретикулоэндотелиальную систему), а также путем адаптивной иммунной системы за счет выработки фагонейтрализующих антител, связана с ранним истощением фагов и последующим снижением эффективности [69, 72].
Для перорального и местного использования это представляется менее проблематичным по сравнению с системным внутривенным применением. Однако повторное применение фагов, увеличение концентрации фагов или использование различных фагов или фагового коктейля могут помочь компенсировать это явление [21, 69, 72, 73]. Более того, стимуляция иммунитета фагами может даже улучшить результат лечения [74].
А. В. Алешкин и соавт. [75] исследовали антифаговый иммунитет у 42 пациентов отделения нейрореанимации, находившихся на искусственной вентиляции легких, с помощью ИФА до и после фаготерапии. Если после первого курса фаготерапии санация была подтверждена в 54–62,5% случаев, то повторные курсы теми же штаммами фагов оказались гораздо менее эффективными и не сопровождались существенной эрадикацией патогенов. Антифаговый иммунитет после однократного применения препаратов бактериофагов был подтвержден титром IgG-антител в диапазоне от 1/16 до 1/4096. В ходе дальнейшего исследования авторы выявили, что нейтрализующие IgG-антитела появляются через 2–3 нед. после первичного курса фаготерапии и являются штамм-специфичными. Таким образом, при повторной фаготерапии авторы рекомендуют менять состав фагового коктейля для поддержания необходимого уровня его литической активности за счет индивидуального подбора штаммового состава, дозирования и пути введения препарата бактериофагов.
Хотя ни о каких серьезных клинических иммунологических осложнениях фаговой терапии на сегодняшний день не сообщалось [21], может возникать вопрос о косвенной иммуногенности из-за лизиса клеток. При этом надо понимать, что и β-лактамные антибиотики лизируют клеточную стенку грамотрицательных бактерий и высвобождение эндотоксина может приводить к клиническому ухудшению и септическому шоку. Однако клиническая ситуация, которая требует антибактериальной терапии или фаготерапии, как правило, сопровождается системной воспалительной реакцией, бактериемией, т.е. состояниями, уже сами по себе опасными для жизни [76–78].
Преимущества бактериофагов перед антибиотиками
Действительно, фаги имеют несколько важных свойств, воздействующих на их терапевтический потенциал. Во-первых, фаги могут самостоятельно усиливаться (реплицироваться), что служит активом, который способствует их эффективности и отличает их от обычных противомикробных препаратов [79]. Во-вторых, некоторые фаги имеют полисахаридные деполимеразы на их хвостовых структурах, которые могут выступать в качестве адъюванта к фаговой инфекции путем разрушения внеклеточного матрикса биопленочной инфекции [80]. В-третьих, фаги считаются безопасными в отношении человеческих тканей и нормальная бактериальная флора человека не поражается, что может объяснить их высокую специфичность (они часто заражают только подмножество штаммов в пределах одного вида), быструю инактивацию и очищение, как только их хозяин (бактерия) более не присутствует [76, 79]. Это также подразумевает, что для каждого нового бактериального штамма может потребоваться конкретный специфический фаг [80, 81]. К счастью, фаги обильно присутствуют в природе, могут быть легко выделены и полностью охарактеризованы [82]. Наконец, механизм действия фагов отличается от антибиотиков, поэтому их обычно не затрагивают бактериальные механизмы устойчивости к антибиотикам [83], который является основной причиной повышенного интереса к фаговой терапии параллельно с увеличением устойчивости к антибиотикам в последние десятилетия.
Перспективы фаготерапии
Эндолизины, или фаговые лизины, – это белки пептидогликангидролазы, используемые литическими фагами к концу литического цикла для разрушения пептидогликанового слоя бактерии, для высвобождения фагового потомства.
В нескольких лабораторных и доклинических исследованиях применяли рекомбинантный очищенный эндолизин для эрадикации чувствительных грамположительных бактерий [70, 84].
В настоящее время существует один эндолизин (CF-301), который тестируется у пациентов с бактериемией, вызванной S. aureus. Однако применительно к грамотрицательным инфекциям только несколько фаговых эндолизинов имеют способность проходить через наружную мембрану и разрушать пептидогликановый слой клеточной стенки бактерий [85].
С целью достижения постоянной концентрации фагов в месте инфекции J. A. Wroe et al. [86] для лечения ортопедической инфекции разработали инъекционный гидрогель на основе полиэтиленгликоля, наполненный фагами (для медленного высвобождения), направленными против P. aeruginosa. Авторы показали, что фаги остаются активными после инкапсуляции и их высвобождение может регулироваться деградацией геля in vivo. Наконец, L. H. Cobb et al. [87] на крысиной модели изучали эффективность альгинатного гидрогеля, нагруженного фагом и/или антибиотиками, для лечения костно-мышечной инфекции. Результаты экспериментов с биопленкой в условиях in vitro оказались обнадеживающими. Однако в модели на крысах in vivo лечение снизило бактериальную нагрузку в мягких тканях, но не в костях. Хотя эти исследования с носителями демонстрируют многообещающие результаты, необходимы дальнейшие исследования в области фаговой рецептуры.